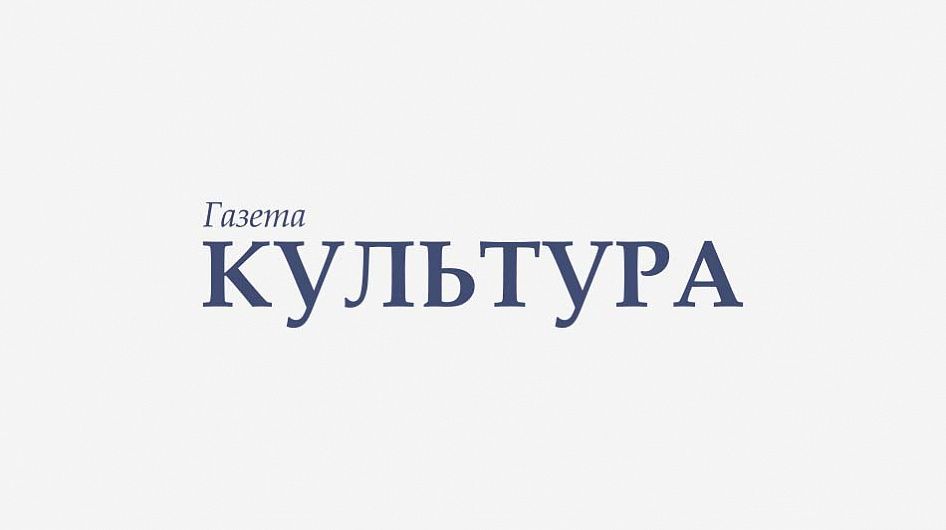
Иван Васильевич меняет невесту
Идея влить молодое вино в старые мехи принадлежала предыдущему руководству театра: классические декорации Федоровского с помощью сценографа Альоны Пикаловой решили восстановить, тем более что опера отсутствовала в афише совсем недолго, но при этом поставить другой спектакль — с новым режиссерским решением. Учитывала ли режиссер Юлия Певзнер, что девятая опера Римского-Корсакова впервые увидела свет рампы в Частной опере Саввы Мамонтова через год после открытия в Москве Художественного театра и что принятые за основу в режиссерском театре принципы исторической достоверности в немалой степени составили эстетический концепт той эпохи. По новой постановке понять невозможно. Во всяком случае, выстроенная ею мизансцена выхода за ворота Кремля группы монахинь, покинувших монастырь, выглядит историческим нонсенсом. Равно как и казнь покаявшегося в финале опричника Грязного воеводой Малютой Скуратовым — на глазах царицы. Странным показалось и дефиле боярышень на царских смотринах, придуманное режиссером на музыку интродукции к третьему действию, «восходящее» к мизансцене пирушки опричников в горнице Грязного, где девок выставляют на стол, только что полный яств, дабы Малюта мог выбрать ту, что «слаще меду» и годится ему для утех. «Царская невеста», написанная композитором по одноименной драме Льва Мея, исторической оперой никогда не считалась, несмотря на обилие реальных прототипов, включая Ивана Грозного. Однако возможно ли было постановщику, давшему согласие делать новый спектакль в классических декорациях Федоровского и в манере «исторического стиля» Большого, обойтись без самого исторического контекста, вопрос.
Рассыпая по всему полю спектакля метки-знаки (наподобие сцены расправы опричников над несчастным купцом в финале второго действия), Юлия Певзнер пытается сочетать реалистическую манеру с условной, деталь — с образным ее отражением, натурализм — с символом. На последних тактах увертюры нашим взорам предстает лежащий ничком на медвежьей шкуре боярин Грязной в охватившей его страсти к будущей невесте царя. Тут же и его видение — плывущая в небесах на качелях купеческая дочь Марфа Собакина. Опричник мается так, что, кажется, еще немного, и он примет скандальную позу Вацлава Нижинского в финале балета «Послеполуденный отдых фавна», где тот в пароксизме страсти решался на совокупление с шарфом ускользнувшей от него нимфы.
Или: в доме Грязного каширская красавица Любаша прячется за медвежьей шкурой, чтобы подслушать разговор любовника с царским лекарем Елисеем Бомелием (что и становится завязкой всей гибельной интриги оперы). Но вдруг — якобы невидимая заговорщиками — она выходит на середину горницы и начинает томиться своим «вещим, злым горем», пока Грязной и Бомелий увлеченно думают-поют о своем. Под финал трагедии зачахшая, облысевшая и покрывшаяся сединами Марфа, на которую подействовал подменный яд, идет к золоченой решетке в глубине палат и — так мнится — вот-вот откроет ее и вознесется на небесные свои качели. Но последние оркестровые аккорды, возвещающие о смерти героини, звучат под почти закрывшийся занавес.
Создается ощущение, что режиссер, выкраивая собственный замысел, старается удержаться, как писал Мейерхольд о Шаляпине, на «гребне крыши с двумя уклонами, не падая ни в сторону уклона натурализма, ни в сторону уклона той оперной условности, которая пришла к нам из Италии XVI века». Но баланса не выходит, а полотно со спутанными нитками выглядит взятым напрокат из провинциального театра, косящего под Большой.
Любовные треугольники, страсти, яды и зелья, томления и ламентации, — вот что движет квазиисторическим сюжетом оперы. Концепции не отказать в универсальности, однако она предполагает наличие недюжинных по таланту воплотителей — артистов, способных обеспечить эмоциональный отклик зрительного зала. Таких в новой постановке немного, и, по сути, нынешнему Большому они достались от его же «золотого века»: Владимир Маторин в роли купца Собакина и Ирина Удалова в партии Домны Сабуровой владеют нестертой интонацией, воспитанной, очевидно, еще в концертмейстерских классах Лии Могилевской или Аллы Басаргиной по золотым лекалам прежнего театра.
Что касается нового артистического призыва, то при хорошей вокальной школе, правильном пении и некоей «цифровой» унифицированности звука, ярких характеров и выразительных портретов он не рождает. В музыке, трепетно, рефлективно и эпически широко исполненной оркестром под руководством Геннадия Рождественского (четвертое действие в решении маэстро иначе как шедевром не назвать), — буйные ветры и лазоревые колокольчики, синие бархаты небес и тучи ненастные. На сцене — певцы «короткого дыхания», настроенные режиссером на мрачно-унылый рассказ о гибельной на Руси женской доле.


