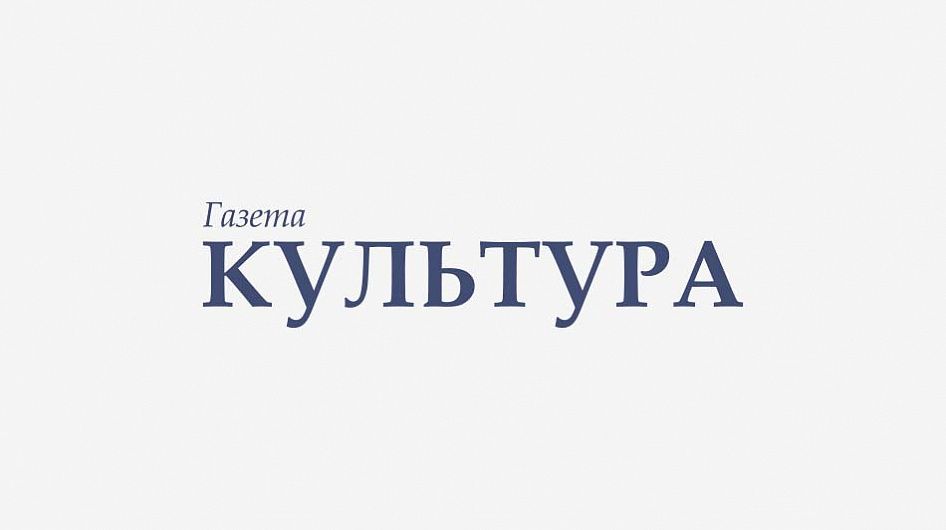
Мэтры кинопленки
30 июня завершился 38-й Московский международный кинофестиваль, приятно удививший разнообразием 24 программ. За восемь жарких дней наша столица подарила гостям и участникам более двухсот картин, радовавших не только стилистическими открытиями, но и обширной географией. Специального приза «За вклад в мировой кинематограф» удостоился украсивший церемонию открытия фильмом «Ке-ды» Сергей Соловьев. Призы «За выдающийся вклад в мировое киноискусство» получили испанский мэтр Карлос Саура и британский мастер Стивен Фрирз. С режиссерами встретился корреспондент «Культуры».
Сергей Соловьев: «Увы, пришла пора получать премии за вклад»
культура: Признание окрыляет или внушает ответственность?
Соловьев: Наводит на размышления. Увы, пришла пора получать премии за вклад, но трудно сказать, состоялась ли моя творческая жизнь. Конечно, приз фестиваля, ставшего настоящим русским домом для мирового кино, не может не волновать. Президент смотра Никита Михалков делает очень многое для развития ММКФ, и я рад являться частью его истории.
культура: Представленные на открытии «Ке-ды» спровоцировали острую полемику среди журналистов. Одни оценили здоровый авторский волюнтаризм, другие сетовали на узнаваемые мотивы «Ассы».
Соловьев: Слыша упреки в самоповторах, я не огорчаюсь, а горжусь! Все-таки ни у кого ничего не украл и не напридумывал, а лишь отразил то, что однажды накрыло и не отпустило. К счастью, не меня одного. Если взять, например, ранние и последние песни БГ, все они написаны на этом приеме — вы слышите две строчки и понимаете: поет Гребенщиков. А Сережу Шнурова, которого я очень ценю, легко угадать даже по одной.
культура: Ваши первые картины дарили веру в чистую любовь, а затем в них заискрился карнавальный шик, навеянный...
Соловьев: Простодушным, сердечным, бурлескным индийским кино.
культура: «Ке-ды» хочется сравнить с похмельем после этого праздника — характеры полустерты, чувства лишь угадываются, будущее пары туманно. Парень уходит на срочную службу, веря, что его дождутся лишь кеды. Любовь больше не светит и не греет?
Соловьев: Не думаю, что это так. То, что мы самонадеянно называем любовью, напоминает дорогу в ЗАГС, усыпанную лепестками увядших роз, грудами пошлости. Истинное же чувство год от года усложняется, самосохраняется, как сейчас модно выражаться — шифруется от нас самих.
культура: А что такое пошлость?
Соловьев: Когда слова звенят, как дешевые разменные монеты. Люди, по-настоящему разделяющие высокие ценности — любовь, целомудрие, самопожертвование, — никогда не станут размениваться. Чтобы защититься от этой гадости («все — на продажу»), они переходят на подпольное положение. Не случайно, первая звучащая в «Ке-дах» песня Басты — «Мама, я — партизан». Мой призывник лишь делает вид, что, кроме кед, ни на что не надеется, — ему так удобнее.
культура: Для Вас кино — не поколенческое ноу-хау, а нечто большее, программное?
Соловьев: Да, духовное самосохранение — программный документ русской культуры. В эти дни я принимаю экзамен у своих первокурсников. Все, кто смог добиться чего-то стоящего, сделали этюды о личной тайне, о том, как они ее берегут. Более простодушные и менее талантливые ребята стараются что-то сказать и показать.
культура: Экранизированный рассказ Андрея Геласимова написан в телеграфном стиле, как Вам удалось разглядеть в нем кинематографический воздух?
Соловьев: Прочитал и ахнул — что-то мне это напоминает? Ба! Да это же ранний Аксенов, «Затоваренная бочкотара»! Я дружил с Васей, хоть и общались мы нечасто. Ехал из Бостона четыре часа и зачитывался аксеновским «грустным бэби». Вроде ничего особенного — ловил его воздушный сладостный кайф. Даже от бумаги, на которой напечатан текст. И все вместе дало мне давно позабытое счастье встречи с литературой.
Геласимовский рассказ — что-то из этого ассоциативного ряда, не манифест, а свидетельство непосредственного дарования. Талант — вещь ошеломительная, он живет как дышит и даже пьет порой неотразимо!
культура: Вы много открываете, когда снимаете картину?
Соловьев: Напротив, закрываю. Не хотел бы, чтобы мои фильмы трактовались как исследования или поступки. Я люблю кино за то, что в нем вещи равны сами себе и ничего лишнего не обозначают. Мои «Ке-ды» — это просто пара обуви. Остальное складывалось вокруг них само собой. В сценарии не было ни титров, ни Басты, ни педикюрного кабинета, ни отрывков из «Летят журавли». Я протащил все это в ленту не из желания нахулиганить, а стараясь сохранить воздух прекрасного рассказа. Снимаю только затем, чтобы самому себе накачать озона. Если еще для кого-то эта среда оказалась освежающей — я счастлив.
культура: И эти вот «озоновые кеды» позволяют Вам «увидеть лично то, что то, что вдалеке»?
Соловьев: Скорее, услышать. Если музыка покинет нас, что станет с нашим миром? Говорил Сан Саныч Блок, который, пытаясь защитить свои уши, порой надолго прекращал писать стихи. На свете нет ничего лучше созвучий, и их нельзя выразить, не имея таланта. Все остальное — высосанная из пальца дребедень.
Стивен Фрирз: «Свою «Королеву» я бы назвал версией эйзенштейновского «Ивана Грозного»
культура: Шедевры 80-х «Навострите ваши уши» и «Опасные связи» — иконы эстетской мизантропии, но в последние годы Вы снимаете гуманное ироничное кино. Стали добрее или научились глубже прятать сарказм?
Фрирз: Скорее, первое. У меня же дети.
культура: В «Королеве» Вы хотели превознести Виндзоров?
Фрирз: Ее величество должна быть действующим правителем, ведь она для нас как мать. Полагаю, условная, конституционная монархия неправильна. Мне ближе катающаяся на велосипеде королева Дании. Это прекрасный образ. У нас же все перемещаются в золотых каретах.
культура: Говорят, накануне гибели принцесса Диана готовилась принять ислам. Став звездой мусульманского мира, она могла дурно повлиять на сыновей. Поэтому многие подозревают, что роковая автокатастрофа была подстроена английскими спецслужбами. Они же полагают, что Виндзоры никогда не отмоются от этого кровавого пятна. Не казалось, что, снимая апологию Елизаветы II, Вы встали на темную сторону?
Фрирз: Не думаю, что это было запланированное убийство. А если бы королевский дом и имел подобные намерения, не представляю, как бы им удалось это провернуть.
культура: Как фильм был принят в Британии, оценили ли его в Букингемском дворце?
Фрирз: Не знаю, я простой человек, а они небожители. Если и видели, то никому не сказали. Тони Блэр точно смотрел, но не признался в этом. Он постоянно врет. Впрочем, и я могу утверждать, что не видел фильмов о своей героине, их ведь до нас никто не снимал. Правда, после премьеры «Королевы» вышел спектакль «Аудиенция» с Хеллен Миррен. Я заметил ей, что больше не следует играть Елизавету II.
культура: Как возникла идея снять Миррен в главной роли?
Фрирз: Уговаривать не пришлось — у нас был прекрасный сценарий. Но ничего нового — мы знакомы с королевой более шестидесяти лет. Каждый раз, когда наклеиваете марку на конверт, вы видите ее портрет. Вообще, если вы живете в Британии, она всегда с вами. Свою «Королеву» я бы назвал версией эйзенштейновского «Ивана Грозного».
культура: Соцреализм все еще является важной частью британской кинематографии?
Фрирз: Да.
культура: Над чем работаете?
Фрирз: В сентябре начну снимать картину о романе королевы Виктории и ее индийского фаворита по мотивам книги Шрабани Басу «Виктория и Абдул: Правдивая история королевы и ее тайного советника». В этом сюжете чрезвычайно интересны личные отношения героев.
культура: В ответах Вы саркастичны и кратки, так же общаетесь со своими актерами?
Фрирз: Конечно. Ведь на самом деле они талантливы и умны.
культура: Какова была Ваша первая реакция на результаты голосования за Brexit?
Фрирз: Судя по референдуму, наши люди безумны! Никто не ожидал, вся страна в шоке. На фоне этого решения королева может потерять часть государства. Шотландия точно отделится. С чего бы им оставаться? И что будет с кино, которое в значительной степени финансируется европейскими студиями? Выход Британии из ЕС станет для нас катастрофой. Что касается меня, я в Москве, и многие друзья сейчас мне завидуют.
Карлос Саура: «Мечтаю закончить ленту про Пикассо»
культура: Ваше творчество делится на два периода. Ранний Саура — режиссер сложных, многослойных семейных драм и психологических триллеров, исследующий феномен утраты и обретения памяти. В 80-х все изменилось. Увлечение музыкальными темами обусловлено личными обстоятельствами?
Саура: Ничего особенного или драматичного. Во времена правления Франко мое кино было политическим. После смерти диктатора и демонтажа полицейского государства я почувствовал некоторое облегчение, большую внутреннюю свободу, сделал шаг вперед и... вернулся к истокам.
С раннего детства любил музыку, но всегда отдавал предпочтение фольклорным песням и танцам — аргентинскому танго, португальскому фадо... Начинал как фотограф, много снимал на музыкальных фестивалях, подружился с танцорами фламенко, видел, как они готовятся к выступлениям. Танец — невероятно сложный труд, и то, как артисты выкладываются в ходе репетиций, — это что-то невероятное. Так же и в балетном мире, но классические танцоры выглядят на сцене как сказочные, фантомные персонажи, а меня больше интересовала работа художников над собой.
культура: Хореография в Ваших фильмах живет эмоциональной жизнью...
Саура: Как правило, делаю один или два дубля. Основательно и подробно репетирую, но стараюсь сохранить пространство для импровизации. Я — ребенок испанской гражданской войны, привык к ограничениям, верю в правду спонтанных решений. Снимая, размышляю над волнующими меня вечными вопросами, многие пластические эффекты имеют непосредственное отношение к моему личному опыту и самоанализу. Каждый раз исследую: как создается произведение искусства — от рождения замысла до воплощения чуда? Думаю над тем, как снять фильм о том или ином танце, и воображение уносит меня в неожиданные дали, позволяя выходить за пределы жанров и предыдущих работ.
Например, представленная на фестивале лента «Танго». Я был влюблен в аргентинский танец с четырех лет, включил в картину любимые, рваные по ритму, композиции и украсил финал «Танго Варваро», которое может переводиться и как дикое, и как потрясающее. Партитуру написал голливудский композитор аргентинец Лало Шифрин, а оператор — обладатель трех «Оскаров» Витторио Стораро. Мы долго подбирали танцоров. Главной находкой стал сыгравший роль старика представитель классической школы — 67-летний Хуан Карлос Копес.
Сегодня танго все больше «обогащается» акробатическими элементами. Бразильцы над ним смеются, называя этот феномен «танго на экспорт». Помню, как я впервые приехал в Рио, будучи уверен, что неплохо танцую. Мне вежливо порекомендовали не заблуждаться на сей счет. Я двигался примерно так, как Брандо у Бертолуччи в «Последнем танго в Париже». Иначе говоря, просто кошмарно.
В моем фильме нам удалось вернуться к истокам не вполне аутентичного музыкального стиля, бразильско-итальянского копродукта, ритмически родственного хабанере.
культура: Вы дружили с великим Бунюэлем, он повлиял на Ваше творчество?
Саура: Это очень тонкая тема, мы были чрезвычайно близки, одинаково смотрели на вещи. Познакомились на Каннском фестивале — после премьеры моего фильма «Охота», который ему очень понравился, так же, как позднее и «Кузина Анхелика». Когда в 68-м Луис снимал притчу «Млечный путь», договорились, что, если он умрет, я продолжу работу. Этим все сказано. Правда, не знаю, как бы он отнесся к моим музыкальным картинам. По кинообразованию я наполовину — русский. Не представляю свою профессию без «эффекта Кулешова» или монтажа Эйзенштейна.
культура: Творческие планы...
Саура: Последние годы я снимаю два типа музыкальных кинолент — сюжетные и ассоциативные, такие, как «Фламенко, фламенко», но всегда стараюсь выйти за рамки фольклора и традиционной хореографии, заставить камеру сотрудничать с танцорами.
Сейчас заканчиваю фильм о малоизвестной широкой публике испанской хоте. Работаю над театральным спектаклем о родстве фламенко и танцев индийских цыган в Раджастане. Мечтаю снять картину о бразильской музыке и танцах, связанных с африканской культурой. Хочу погрузиться в традиции Карибского региона и наконец закончить ленту про Пикассо, посвященную созданию «Герники». К счастью, я молод, мне всего 84 года. Надеюсь, все сложится.
культура: Ваши впечатления от Москвы с годами изменились?
Саура: Помню, приехал в январе, страшно мерз, на улице почти не было людей. Пришел на Красную площадь поснимать и встретил там лишь одну маленькую девочку. Это был совсем другой, куда более самобытный город. Сегодняшняя Москва напоминает все мировые столицы. Но русские люди все такие же открытые, теплые, душевные, у вас очень музыкальный язык. Боюсь только, мне уже не хватит времени его выучить...


