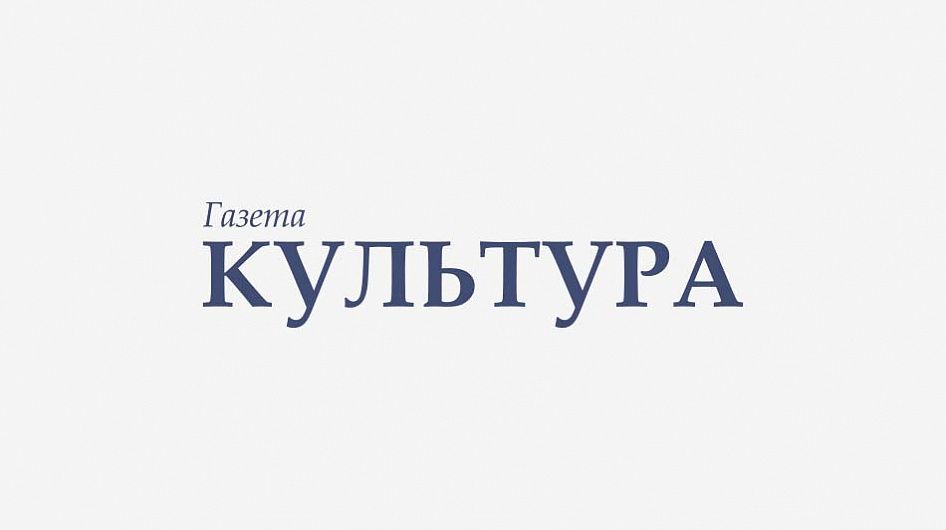
Ренессанс Латинского квартала. Из новой книги Максима Кантора «Чертополох и терн». Продолжение
Книга выйдет в издательстве АСТ в августе 2021 года. Глава № 35 «Ренессанс Латинского квартала» публикуется с разрешения издательства.
«Культура» рада представить читателям главу № 35 «Ренессанс Латинского квартала» из книги художника, философа Максима Кантора «Чертополох и терн».
Предыдущая часть главы доступна по ссылке
4
Яснее всех это время выразил, как обычно, Пикассо.
В 60–70-е годы Пикассо пишет свои последние работы — те холсты, к которым принято относиться не то чтобы несерьезно, — но эти картины считаются старческой прихотью мастера, желанием подурачиться напоследок.
Картины эти выглядят как проказы ребенка или как шалости похотливого старика — наспех нарисованные несуразные лица, где черты перепутаны: нос на месте уха, глаз на лбу; он рисует не людей, а уродливых мутантов, причем чаще всего изображает половые акты между кривыми, нелепо скроенными созданиями — это не вполне люди, карикатура на замысел Творца. Рисует этих уродов автор нежнейших картин «розового периода», автор «Человека с ягненком», автор «Герники». Когда Пикассо рисовал исступленные лики жертв войны, деформации были понятны; но в последних вещах никакой моральной посылки нет — уродство ради уродства. Возможно (об этом подчас говорят) деформации в лицах вызваны исступлением полового акта: мол, художник так передает доведенную до неистовства физиологию.
Говорят о старческой похоти фавна: Пикассо изображает уже не нежные объятия, как в свой «розовый период», но вопиюще физиологические коитусы, рисует половые органы так, как хулиганы на стенах общественного туалета — беззастенчиво, нагло. На нежные объяснения у нового персонажа Пикассо, вероятно, уже не осталось времени: герой холстов — старик. Пресловутое «женское начало» волнует старика (и покинутые дамы именуют его «сатиром»), а поздняя женитьба — Пикассо не был разведен с Ольгой Хохловой и лишь после ее смерти женился на Жаклин Рок в 1961 году, когда ему было 80 лет, — «объясняет» старческую похоть. В скобках надо сказать, что с Жаклин художник жил к моменту свадьбы уже семь лет и в общей сложности пара прожила вместе двадцать лет, — то был счастливый брак. Объяснение «женской теме» ищут в сюжете «Похищение сабинянок», который Пикассо часто пишет в те годы. Похищение римлянами женщин из племени сабинян и дальнейшее примирение с враждебным племенем, организованное женщинами, — просто трактовать как призыв к любви вместо военных действий. Если Пикассо хотел противопоставить строевой муштре — занятия любовью (в духе возникающих тогда коммун хиппи и лозунга make love, not war), то сюжет «Похищение сабинянок» подходит как нельзя лучше. Для картины, написанной после войны, это сюжет естественный — Рубенс (чью картину Пикассо пародировал) писал «Похищение сабинянок» в 1637 году на излете Тридцатилетней войны и в надежде на раннее примирение. Но, даже если принять такую версию, мешает та нарочитая вульгарность, с какой Пикассо изображает нежных сабинянок, кои, согласно сюжету, должны примирять.
Сабинянки Пикассо — не кроткие любящие создания, но гетеры и вакханки, крайне порочные особы, жаждущие похищения.
И всякая женщина, изображенная в те годы (Пикассо не щадит даже жену Жаклин, ему в принципе не свойственно делать исключения), порочна и бесстыдна.
Мало того, Пикассо обращается к своим же прошлым сюжетам из жизни арлекинов, циркачей, художника в мансарде и его подруге, к темам, которые он трактовал сентиментально; обращается словно затем, чтобы свою юношескую чувствительность осмеять. Тогда, в 10–30-е годы, во время войны и фашизма, он писал объятия, в которых возлюбленные искали убежище друг в друге, прятались от мира в своей трепетности и гуманности. Арлекины тех лет были чисты и наивны, дотрагивались до Коломбин кротким жестом. На склоне лет и в мирной, что немаловажно, Европе Пикассо пишет агрессивного арлекина («Арлекин с палкой» 1969 г., частная коллекция), художника-сатира, вцепившегося похотливым глазом в развратную модель («Художник и модель», 1963, Рейна София, Мадрид), вульгарный (иные скажут: сальный) поцелуй старика, который просунул язык в рот бесстыдной девицы («Поцелуй», 1969, частная коллекция). Подобных произведений столь много, что это наводит на мысль о бесшабашном хулиганстве: мол, мэтр решил проверить, выдержит ли мир его наглость. Пикассо пишет в год до 160 картин (больше писал только Ван Гог в свои предсмертные годы, но Винсент Ван Гог работал из последних сил, писал в день по два пейзажа, знал, что ему отпущено мало времени), Пикассо пишет много, упиваясь грубостью, смакуя вульгарные подробности. Когда он рисует «Юношу с флейтой II» (1971, частная коллекция), и сюжет может напомнить о его нежных флейтистах 20-х годов («Флейта Пана», 1923, Музей Пикассо, Париж), то на этот раз рисует столь разнузданно, что пенис музыканта и волосы на лобке обращают на себя внимание больше, чем лицо и флейта. Когда рисует обнаженную (рисует их бесконечно), то это непристойно голая женщина, и на первом плане не нежные формы, но вульва и срамные губы, а черты лица вывернуты и нарочито грубы.
Апофеозом таких изображений можно считать офорт, датированный 07.08.1972, — на котором изображена голая женщина, стоящая на четвереньках, задом к зрителю — в позе Венеры Каллипиги, как сказал бы Гойя, рисовавший так Каэтану Альба. В оптическом центре рисунка оказались срамные губы дамы и подробно вырисованный — приглашающий зрителя войти — вход во влагалище. Юный Пикассо рисовал сцены барселонского публичного дома, порой и откровенные; но он был юн и переживал первый сексуальный опыт. Но девяностодвухлетний художник, желающий указать, куда именно устремлена вся история, — это совсем иное дело. Примечательно в данном изображении то, что Пикассо на первый план выставил ступню голой женщины и внимательно исследовал пятку, повторяя пластику фрагмента из рембрандтовского «Блудного сына». Мастер, никогда не упускавший случая съязвить, показал динамику гуманизма в культуре весьма наглядно.
И, в довершение всего, эти вульгарные дамы не просто «некрасивы» в традиционном обывательском понимании женской прелести — женщины Пикассо вопиюще уродливы. Черты героев позднего Пикассо не просто грубы, но словно распадаются, точно человеческое существо перекроили, а сшили неровно и неверно; это не кубизм, который многочастной конструкцией передает сложность человеческого собора; это не мрачное готическое рисование военного времени; это не сюрреалистическое запугивание зрителя аномалиями — нет, совсем иное. В мирные светлые годы Пикассо рисует искривленные похотью и праздностью лица, распадающиеся на части оттого, что человеческое естество взяло верх над разумом. Пикассо рисует цветы так, что от гармонии растения не остается и следа — наспех намалеванные грубые линии похожи на рисунки дикаря. И если некогда говорилось о том, что Пикассо копирует африканское искусство (он сам культивировал эту легенду, хотя шел от рафинированной готики), то в данном случае аналога нет вовсе. Иные искусствоведы говорят о так называемой ювенильности (нарочитой ребячливости), непосредственности ребенка. И сам Пикассо, в своем обычном провокационном стиле, рассуждает о том, как хотел бы он добиться в рисовании непосредственности ребенка. На эту — столь прозрачную — провокацию зритель поддается охотно; английский драматург Ноэл Коуард пишет комедию «Обнаженная со скрипкой», где рассказывает о французском знаменитом художнике, который меняет «периоды» творчества (африканский, абстрактный, ювенильный), всякий раз нанимая исполнителя: африканскую мазню исполняет дикий представитель черной Африки, для абстракций нанята пожилая алкоголичка, ювенильный период исполняет пятилетний ребенок.
Усугубляет впечатление розыгрыша то, что Пикассо дает скандальное интервью, в котором говорит: «Настоящими художниками были Джотто и Рембрандт. Я же клоун, который понял свое время». Критики делают вид, что не верят, выходит ответ «Пикассо, вы смеетесь над нами!», но вместе с тем отчасти и верят — художник заработал репутацию провокатора, не считающегося ни с чем; вероятно, он всех нарочно дурачит.
Неудивительно, что так называемый «ювенильный период» Пикассо становится исключительно популярным среди новых, алчущих полного раскрепощения и новой свободы интеллектуалов; появляется бесчисленное количество подражателей. Ювенильность становится едва ли не целью, к тому времени, как в XXI веке открыли картины Баскиа, восприятие критики уже подготовлено, чтобы видеть в сознательной демонстрации вульгарного неумения высшую стадию свободы.
Вместе с тем этот так называемый «ювенильный период» Пикассо — не уступает по трагизму и осмысленности его военным картинам: это повесть о человеке Ренессанса, потерявшем лицо. Пикассо пишет конец Ренессанса; закат гуманистической эпохи.
Мастер сознательно выбирает персонажа ренессансной истории, символ рыцарства и гуманизма, долга, чести, достоинства — рыцаря, идальго, мушкетера — чтобы показать, как образ рушится, как образ превращается в уродливую пародию.
Пикассо — подобно авторам пьес абсурда — пишет о том, как стремление к свободе и абсолютное непонимание того, что есть свобода, разрушает условного «ренессансного» героя.
Если бы не было иных свидетельств, только изобразительное искусство, — единого взгляда на произведения прошлого века достаточно, чтобы понять: после войны человек потерялся. Краткий Ренессанс посулил человеку новый расцвет, казалось, что грустные искренние люди создадут новую Европу, общество чистых искренних людей. Но вышло иначе: герой Генриха Белля и Карла Хофера, Камю и Бюффе, Солженицына и Гуттузо — вдруг исчез. Герой не просто вышел из моды, но вовсе исчез, внезапно, как это бывает в романах Уэллса. Вместо его портрета осталась несуразная маска, вместо описания — пьеса абсурда.
По скульптурам Донателло, по картинам Беллини можно узнать, каков человек итальянского Кватроченто, как он двигался, как улыбался. По картинам Гойи можно составить энциклопедию характеров Испании тех лет. По карикатурам Домье известен облик парижанина эпохи буржуазных революций. Мастера прошлых веков видели миссию в том, чтобы оставить свидетельство о человеке своей эпохи. Но человека второй половины ХХ века не существует — у него нет лица.
Потомок, листающий альбом фамильных портретов человечества, ахнет, дойдя до конца ХХ века. Трудно поверить, что у людей конца ХХ века не было лица. Эта метаморфоза случилась, как ни парадоксально, тогда, когда Европа освободилась от ужасных режимов. Конечно, облик человека искажали и прежде. Прежде новаторы разрушали привычный образ: буржуазии нравятся глянцевые портреты — а кубисты и сюрреалисты облик людей корежили. Когда Пикассо спросили, почему он искажает черты лиц, художник ответил (имея в виду заказчиков-буржуа): «Я их пугаю!» Речь, однако, об ином: о том, что портрет исчез вовсе. Корежить (то есть видоизменять) можно объект, который существует, — но нельзя изменить то, чего нет в принципе.
Человек — мера всех вещей, говорит Протагор, но, судя по всему, потребности в измерении мира не стало: как измерить мир безмерной свободы?
В сказанном можно усмотреть обличение современности: мол, стали хуже рисовать; но обличения нет. Произведения современного искусства потрясают — однако потрясение иного свойства, не то, какое зрители испытывали, созерцая образы, похожие чертами на них самих. Теперь узнаваемых черт нет. Не странно ли: люди стали свободнее, здоровее, живут дольше, но их лицо исчезло. Ссылаются на фотографию: мол, фотография заменила изобразительное искусство; но это принципиально разная деятельность: фотография оставляет механическое изображение, а изобразительное искусство создает образ. Образ в искусстве не буквально схож с человеком, это не копия; образ создавали, уподобляя произведение человеческому облику так же, как человек творился по образу и подобию Господа. Неужели христианский Бог сегодня исказил свои гуманные черты и стал похож на символы первобытных племен?
Возможно, испытания исказили облик человека ХХ века, тем не менее во время чумы погибла треть населения Европы, однако людей рисовали прекрасными. А в победившей коричневую чуму Европе изображение лица человека оказалось ненужным. Как объяснить, что инсталляции Бойса, чугунные квадратики Карла Андре, железные блоки Ричарда Серры имеют в виду человеческое общежитие? Возможно, изображен не сам человек, а его внутренний мир, но мы знаем из теологии и философии, что тело есть проекция души.
Если отвлечься от рассуждения о Боге, останется вопрос о социальной истории, которую мы хотим помнить. Искажая облик человека, художники развернули вспять социальную эволюцию. Искусство, помимо прочего, прилежно отражает социальные перемены, изменение статуса гражданина в обществе. Давид, стоящий на площади Синьории, пребудет в веках как представление о республике и гражданстве. Прямая осанка и гордая посадка головы, открытый взгляд, высокий лоб — это те черты, которые скульптура отвоевала у рабства и неравенства. Давид не признает неравенства и безответственности — он отвечает за общество равных. Изображения людей, фиксируя осознание человеком своего достоинства, распрямлялись с каждым веком — человек представал все менее зависимым от среды.
Муравьиные процессии рабов струятся вдоль ног величественного фараона, но однажды фигуры рабов стали крупнее и у рабов появились черты лица. Если сравнить гордых рабов Микеланджело и неразличимых в общей массе человечков с гробниц фараонов, то видно, как изменилось представление о ценности человеческого существования. Если сравнить грандиозного, не знающего сострадания царя Междуречья Хаммурапи со скульптурным изображением Марка Аврелия, что стоит на Капитолийском холме, заметно, что представление о власти изменилось. Постепенно скульптурные изображения людей отделялись от плоскости стены, рельеф переходил в круглую скульптуру, люди обретали независимое стояние. Фараон и царь перестали подавлять масштабами простых смертных, а достоинство человека проявляется в том, что он равновелик в пропорциях с сильными мира сего. Современный зритель, знакомый с прямой осанкой римских консулов и с гармоничным бытием греческих атлетов и богов, может почувствовать характер законов общества, оставившего эти скульптуры.
Ко времени Родена западный мир столь утвердился в идее гармонической личности, что никто не заметил нелепости в «Мыслителе» Родена — вообще говоря, для того, чтобы думать, не обязательно снимать штаны, и поза мыслителя (подпертый рукой подбородок) плохо сочетается с нагим мускулистым телом, предназначенным для спорта и любовных утех. Роден, исполнявший обязанности Микеланджело буржуазного общества, изображал прихотливую комбинацию гражданственности и предельного гедонизма, нагие наяды долженствовали воплощать чистоту республиканской идеи, и это сочетание парижские буржуа находили естественным. Видимо, изваяния Родена стали своего рода акме западной цивилизации, высшей точкой достижений гражданских свобод и удовольствий, финальным представлением о гармонии христианского искусства.
В дальнейшем пошел обратный отсчет, и образ утрачивает репрезентативные черты, теряет значительность, пропорциональность. Процесс разрушения образа был стремительным, образ развоплощался, возвращался к той стадии условного значка, обобщенного идола, языческого куроса, от которого так долго уходил. Если не брать в расчет парковую скульптуру (единожды устоявшийся канон, который с XVIII века не менялся, вне зависимости от того изображается ли женщина с веслом или германский курфюрст), скульптура и портрет изменились радикально: человек перестал напоминать человека. И соответственно, исказилось представление о социуме, населенном этими существами.
Ретро-империи ХХ века, как казалось диктаторам, вернули в мир «гармоничного» классического человека (витрувианскую и протагоровскую «меру всех вещей»), и действительно — скульптор Брекер словно бы воспроизводил по тем же лекалам «античную» модель; парадокс возвращения состоял в том, что «античный» герой вернулся в мир уже после того, как мир стал христианским. Языческий титан вошел в христианский мир, не просто отрицая хрупкость демократий, но отрицая христианский гуманизм на основании победительного язычества.
И вот, когда колоссов фашизма и тоталитаризма свалили, возник вопрос — пусть этот вопрос и не задавали, но вопрос существует, и его обойти нельзя: в каком образе воплотить свободу, если «античный» титан уже навсегда связан с языческой ретро-империей?
Вероятно, новое свободное, победившее фашизм общество должно найти адекватные формы для «негативной диалектики» франкфуртской школы.
Но какое представление об устройстве социума потомки получат, глядя на ассамбляжи Сезара? Что узнают о доктрине демократии, глядя на мобили Колдера? Что подумает человек будущего о моральных принципах победителей тоталитаризма, если воплощением их является объект Армана? В данном вопросе нет обличения — только любопытство; это любопытство обуревало позднего Пикассо, Ионеско и Беккета.
Сказанное выше не заслуживало бы рассмотрения (искусство дышит, где хочет), если бы не существенный философский аспект проблемы: в наш век, когда религией людей стала личная «свобода», изображения человека сделались уродливыми, дисгармоничными и утратили антропоморфные черты. Это болезненный вопрос, поскольку ответ может быть только один: если вера в Бога заставляла воспроизводить гармоничные черты творца (человек есть образ и подобие Бога), то вера в свободу заставляет воспроизводить черты свободы, и, стало быть, свобода — уродлива.
В диалоге «Пир» Платон доказывает, что Эрот имеет уродливые черты, поскольку ищет любви и гармонии, и, коль скоро он их ищет, стало быть, сам Эрот этими чертами не обладает, а значит, внешний вид божества Любви — уродлив.
Если применить это рассуждение к феномену свободы, то можно утверждать, что поскольку свобода ищет неведомую еще гармонию развития, то, следовательно, сама свобода гармонией не обладает, лишена определенных черт, не имеет лица. Трудно сказать это тем гражданам, кого пригласили умирать за свободу, позвали на баррикады. У «Свободы» Делакруа было определенное и привлекательное лицо; в принципе, рядом с такой симпатичной дамой можно постоять на баррикадах. Но отдать жизнь за писсуар Дюшана (даже если этот объект символизирует свободу) было бы досадно. Было бы крайне обидно, желая обрести собственное лицо, отдать жизнь за то, что не имеет лица. Все, конечно, знают, что политики обманывают — но сказать, что свобода, за которую собираешься отдать жизнь, — химера, это, пожалуй, чересчур.
Страсть к свободе стала религией, новым социальным культом, но невозможно верить в то, что еще не состоялось. Если бы массам объяснили, что народ призывают верить в то, что еще не нашло своего выражения, манифестанты бы расстроились. Люди убеждены (и Просвещение им это объяснило), что свобода есть абсолютно конкретное качество бытия, обозначенное в конституции. И сказать, что лица у свободы нет, гражданину Европы — было бы невежливо.
Правды ради, в истории человечества художники никогда не обозначали целью творчества свободу. Лишь во второй половине ХХ века (как реакция на жестокие ретро-империи) возникло утверждение, будто искусство есть урок свободы, который мастер преподает зрителю. Поэт Бродский писал, что «словесность» (следует понимать шире: творчество вообще) — есть «дочь свободы», концептуалист Кабаков уверяет, что единственный урок, который дает искусство, есть «урок свободы», — это звучит храбро. Однако на протяжении веков люди думали, что причиной творчества является не свобода — но обязательства морального толка. Искусство возникало для того, чтобы прославить Бога, выразить любовь или милосердие, преклониться красоте жизни, воспеть величие Отечества или величие природы. Отдельное стояние Дорифора или Давида символизирует не свободу и уникальность данного героя, но стать граждан независимого общества, принцип прямой спины гражданина республики, защиту Отечества. Винсент Ван Гог весьма удивился бы, узнав, что он стал символом свободного художника: он был тружеником, поклявшимся воспеть крестьянина в Нюэнене, шахтера в Боринаже. Нет и никогда не было у искусства цели прославить личную свободу — отдельная свобода, согласно категорическому императиву вообще невозможна без учета свободы соседа, однако в конце ХХ века данная цель была сформулирована.
Формулировка стала индульгенцией и освобождением от общественной миссии (что в свете испытаний ХХ века должно радовать) и одновременно освободила от формы, от антропоморфных черт.
Именно это состояние — беспризорной свободы, потерявшей лицо, — и выразил поздний Пикассо.
Свобода от общественного служения (манящая, казалось бы, перспектива) неминуемо должна устранить пластику из искусства. Дело в том, что пластика — это представление о единой форме, объединяющей фрагменты в целое, пластику можно уподобить общественной идее, идее государственного строительства. Личная свобода не может выражать себя через формы общественной эстетики. Личная свобода не связана с эстетикой (то есть системой общественных норм). Республиканское строительство не менее детерминировано, нежели имперское, и так же строго определяет пластику, руководит деформациями пластики. Принять принцип тотальной свободы — значит отменить форму; казалось, что отменяют имперскую пластику, но отменили и республиканскую. С ней вместе отменили антропоморфный образ. Оскар Уайльд подробно описал, как изменяются индивидуальные черты человека, поставившего себя над моралью, — тем самым он оказывается и вне законов пластики и гармонии, которые всеобщи.
Человек ХХ века столь долго боролся за личную свободу и личные права, что освободился начисто, полностью, в том числе от своего образа и тела; он освободился от связи с Богом и традицией, с происхождением и культурой — и стал невидим.
Свобода настигла искусство вдруг; скульпторы еще вчера силились передать гармонию черт, но затем стали лепить аномалии и курьезы, а потом перестали лепить вовсе — это произошло внезапно, так стрелочник переводит поезд на другие рельсы. Персонаж картин и скульптур постепенно утратил человеческие черты, и если бы теперь создание мастера ожило, то это оказалась бы отнюдь не Галатея, но бесформенный Франкенштейн. Фантастические фильмы современности изобилуют сюжетами, в которых оживает отвратительная вещь — то ли завезенная на нашу землю из иных миров, то ли сохранившаяся от иных времен. Босх, рисуя то, что случилось с Великим герцогством Бургундским по причине его невероятных амбиций, это предвидел: мир оккупирует нечисть.
Босх (за ним Брейгель, Гойя и сюрреалисты) показывали драму превращения человека в чудище; божественное начало все еще оставалось образцом, но человек мутировал, его уродовало время; процесс борьбы человека за сохранение лица и запечатлел Босх. В его главных картинах («Несение креста», «Унижение Христа») мы видим прекрасное лицо Спасителя, гармоничное и простое, окруженное чудовищными мордами.
И Спасителя на картинах Босха — жалко. Босх, Шекспир, Пикассо в «Гернике» — пишут трагедию: потерю человеческого лица под натиском небытия. Лишь полная мера бытия, соединение через антропоморфные черты с Божественным замыслом и гармонией — лишь это дает возможность пережить разрушение как трагедию, как дисгармонию. Но если нет гармонии — то и трагедии нет.
Абстрактная свобода не знает трагедии — абстрактный человек не может умереть и пережить катарсис трагедии. Сартр вспоминает, как Джакометти был сбит машиной на площади Италии в Париже. Лежа в больнице со сломанной ногой, скульптор повторял: «Наконец-то со мной случилось что-то настоящее». Создатель сотен образов абстрактного человека восхитился мыслью, что переживает конкретную драму.
Означает ли отсутствие трагедии в современном без-образном искусстве то, что тотальная свобода исключает трагедию; может ли быть свобода бестрагедийной?
Ницше показал, как трагедия рождается из духа гармонии, из духа музыки; значит ли это, что отсутствие гармонии вытерло понятие трагедии из свободы?
Искусство Пикассо последних лет его жизни — два типа свободы, подвигающих человека к деятельности. Художник, называвший себя гуманистом (подобно Беллю, Камю, Маритену, Шагалу), боролся за свободу конкретного человека против конкретного зла; но затем изобразил (в мирных условиях, вне борьбы) ту степень освобождения, которая отменяет все — любой детерминизм, в том числе и ту конкретную свободу, за которую он боролся в годы войны. Пикассо рисовал это противоречие сознательно: катарсис в данных картинах как бы вынесен за раму. Сами картины бессобытийны, и трагедии в них быть не может. Трагедия происходит в сознании зрителей, в той мере, в какой они осознают ущербность обретенной свободы.
Продолжение следует.
На фото картина Пикассо "Похищение сабинянок".


