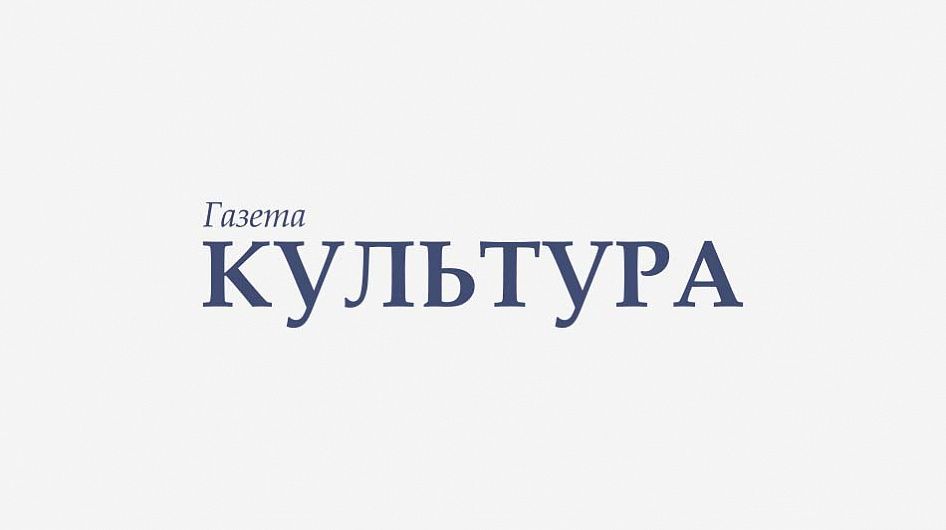
Ренессанс Латинского квартала. Из новой книги Максима Кантора «Чертополох и терн». Продолжение
Книга выйдет в издательстве АСТ в августе 2021 года. Глава № 35 «Ренессанс Латинского квартала» публикуется с разрешения издательства.
«Культура» рада представить читателям главу № 35 «Ренессанс Латинского квартала» из книги художника, философа Максима Кантора «Чертополох и терн».
Начало главы доступно по ссылке
2
В ХХ веке ренессансное обновление европейского общества возникло закономерно, в результате победы над фашизмом и смертью Сталина, последовавшей через семь лет после окончания войны.
На уровне политической риторики (часто лживой) движение к так называемому «государству всеобщего благоденствия» началось еще во время Второй мировой войны. Роль, которую во время Первой мировой играли революции, в этот раз сыграли сами политики. В Атлантической хартии, подписанной в 1941 году, Черчилль и Рузвельт официально заявили, что целью союзников является «освобождение от нужды» народов Европы. Это, конечно, звучит абстрактно; в сущности, Гитлер и Муссолини говорили ровно то же самое, а послевоенная политика Черчилля (например, в Греции) вовсе не соответствует декларации. Тем не менее все политики понимали, что страдания народов Европы требуется компенсировать убедительно; идея «социального государства» (организованного с учетом требований «левых» партий) была принята как рабочая программа.
В послевоенный период экономику Европы восстановили в короткий срок, появились миллионы рабочих мест; повсеместно отказались от авторитарной идеологии, от плакатного героя и партийной дисциплины. Во время господства в Европе фашистской идеологии формировались принципы сопротивления, поэтому в первые мирные годы возможен труд на благо республики: сказалась накопленная энергия.
Во Франции эти годы получили название «славное тридцатилетие» (trente glorieuses), имеется название для этого же периода в Италии «годы экономического чуда» (anni del miracolo economico), для локального явления русского ренессанса 50–60-х годов принято определение «оттепель»; для германских двадцати пяти лет есть определение Wirtschaftswunder «экономическое чудо» — но все эти итальянские, немецкие, российские, французские определения одного и того же явления: европейского послевоенного Ренессанса.
Эра Аденауэра (14 лет правления), встречные шаги германского канцлера и президента де Голля создали беспрецедентную для Европы ситуацию. После трех франко-прусских войн (если считать войну 1870 года за первую в списке, чем она по сути и является) возник союз Франции и Германии, определяющий положение континента. Несмотря на то, что альянс вряд ли нравился Британии (а когда к союзу Аденауэр — де Голль прибавился Альчиде де Гаспери, а затем Альдо Моро, то ситуация не понравилась совсем), Европа попала в невиданную никогда прежде полосу социального согласия. Обсуждение (и утверждение) принципов республиканского правления, воплощение социальной утопии равенства на уровне законодательном, отрицание национальной розни, признание христианских принципов и гражданского гуманизма как основание законотворчества дают основания для использования термина «Ренессанс». В 1945 году в Германии возникает партия «Христиано-демократический союз» (CDU), само название которой отсылает к неоплатонизму и идеям Пальмиери.
Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, Никита Хрущев, Альчиде де Гаспери — слишком разные люди, чтобы их обобщать, тем паче, что советский лидер Хрущев чересчур вульгарная фигура и, строго говоря, не имеет никакого права находиться среди антифашистов и гуманистов. Тем не менее факты таковы, что правление этого гротескного персонажа истории, знаменитого расстрелами в Киеве и травлей Пастернака, подарили России и Советскому Союзу редкую возможность не только освободиться (пусть формально) от сталинизма, но и приблизиться в социальных дебатах к европейской проблематике. Европейской же проблемой тех лет стало осознание и конституционное утверждение на парламентском уровне тех сил, которые привели к победе над фашизмом. Речь идет об одновременном сосуществовании нескольких культурных факторов: демократии, республиканизма, социализма, христианства и гражданского гуманизма. Именно осознанная комбинация этих принципов привела к военной победе над фашизмом, причем ради победы в войне заключены политические союзы между религиозными, социалистическими и буржуазно-демократическими силами до того невозможные. В это время рождается политический термин «христианская демократия» — Альчиде де Гаспери и Конрад Аденауэр — примеры данной политической философии; для Италии и Германии на долгие годы партия с такой программой становится управляющей политической силой. Усилиями Конституционного собрания в Италии (в Конституционное собрание входит и де Гаспери) разработана республиканская конституция. Создаются новые конституции, основанные на христианско-демократических и социал-демократических принципах. И хотя Генрих Белль постоянно иронизирует над партиями ХДС и ХСС, а в романе «Глазами клоуна» Белль высмеивает «христианский демократизм» в качестве политической доктрины, изображая ханжей и лицемеров, однако в Германии строится социальное государство. Во Франции и Италии огромное влияние приобретают социалистические партии; поразительно, что поворот к социализму проходит на фоне советской «оттепели» и опубликованных данных о сталинских репрессиях и лагерях. Энрико Берлингуэр, лидер коммунистической партии Италии, продолжает дело Антонио Грамши, мученика тюрем Муссолини, и становится влиятельным европейским политиком. Впервые (по сравнению с началом века, когда левые партии преследуются, этот факт шокирует) так называемые социалисты фактически лидируют в Европе. Даже в Англии к власти приходит социалист Клемент Эттли с характерными реформами национализации, впрочем, его премьерство ненадолго.
«Левизна» европейской интеллигенции принимает гротескные формы в связи с поддержкой экзотической революции на Кубе, в связи с популярностью фигуры Че Гевары. Аргентинский инсургент, ставший символом борьбы против колониализма, сделался — наряду с Хемингуэем — символом нового понимания свободы, не связанного с политическими партиями. Че Гевара не партийный революционер, но романтик, воскрешающий байроновский тип героя, как и Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй демонстративно селится на Кубе, дружит с Фиделем Кастро. В эти же годы Жан-Поль Сартр демонстративно объявляет себя «маоистом», и, хотя малосимпатичные черты культурной революции известны в Европе, позиция Сартра усложняет понимание антикапиталистического сознания. В целом процессы Европы можно скорее характеризовать как антикапитализм, нежели как осознанный социалистический дискурс или тем более коммунизм. В рамках антикапитализма появляются неомарксистские работы Эриха Фромма. Послевоенный процесс деколонизации усиливает интеллектуально осознанные антикапиталистические настроения; европейский интеллектуал осознает историческую вину; вообще термин «историческая вина» (чаще применяемый к Германии, разумеется) становится популярным.
Социалистическую идею и деколониальные настроения, как ни странно, подогревает атмосфера холодной войны. Фултонская речь Черчилля, прозвучавшая сразу после войны, вкупе с печально известным маккартизмом положила предел намечавшемуся альянсу с Советским Союзом, но инициировала левые настроения Европы.
У Европейского социального ренессанса есть временные границы — с 1945-го до 1968–1973-го. Сдвоенная дата в финале процесса обозначает как оккупацию Чехословакии, так и переворот в Чили. Обе эти даты стали роковыми для утопии, война в Индокитае и война в Алжире не наносят такого вреда концепции доверия и «социального государства». Антидемократический демарш Советского блока в Чехословакии и симметричный ответ, свержение социалистического режима в Чили положили конец согласию. Начавшаяся в 1965 году война во Вьетнаме еще не уничтожила иллюзий; события в Чехословакии и Чили остановили Ренессанс. Надо упомянуть и вторичное (1973) избрание Хуана Перона президентом Аргентины. Аргентина удалена от Европы, тем не менее эта страна является экономическим и интеллектуальным лидером Латинской Америки, в ней в годы войны находят убежище многие интеллектуалы (Ортега-и-Гассет: «Аргентина — это ковчег, в котором спасется мир»). Идеология Перона именуется — «справедливость» (Justicialismo) и представляет смесь левых и правых доктрин, до такой степени произвольную, что Перрона нельзя назвать ни «левым», ни «правым». Много он берет от Муссолини, Ленина, Франко и Гитлера, причем одновременно является как бы социалистом и как бы националистом. Опирается на рабочих и ненавидит демократию, разрушает церкви, объявил врагами Америку и Запад, запрещает газеты, ненавидит Америку. Свергнутый армией, Перон возвращается к власти еще раз, затем власть наследует его жена Мария Эстела; в Латинской Америке устанавливается традиция военных переворотов, чередование хунт, напоминающих наполеонообразные путчи, что затевал Боливар и в Испании Риего. Пероновская лево-правая идеология становится своего рода матрицей, показывающей политическую продуктивность смешения «демократических» и «фашистских» лозунгов в единый идеологический продукт. Мировая война, казалось, обособила и развела «правую» и «левую» идеологию, но вот комбинированный идеологический продукт показал относительность любого лозунга, когда речь идет о власти. Смесь «левого» и «правого», консервативной программы и лейбористской, националистической и демократической будет использована лидерами от стран от Европы до Азии, от Блэра до Каддафи. Так же как невозможно твердо сказать, консерватор Блэр или лейборист, социалист Каддафи или азиатский сатрап, как невозможно отныне идентифицировать вообще намерения партии. Демократический социалистический Советский Союз являлся колониальной империей, и, оппонируя лево/правому феномену, прибегали то к «левой» риторике, то к «правой». Релятивизм, хладнокровно продемонстрированный Пероном, вдруг выявил всю несуразность идеологий. Намерения «социального государства» еще не забыты, курс на демократическое единение Европы еще актуален — на то, чтобы отказаться от этой политики, уйдет еще полвека, но после убийства демократа-католика Альдо Моро термин «левый» практически стал синонимом слова «террорист». Кастро и Че Гевару уже презирают, маоизм Сартра вызывает насмешку, и неомарксизм получил решительный ответ от европейских либеральных мыслителей.
Завершила дело одиозная речь Хрущева 6 января 1961 года, в которой советский лидер предрек гибель Западному миру, заявив, что Советский Союз будет пользоваться «национально-освободительными движениями» Азии, Африки и Латинской Америки, каковые открывают «новые возможности». Реплики «мы вас похороним» и т. п. не способствовали интернациональной дружбе. В Советском Союзе, как известно, «республику» и «демократию» трактовали иначе, нежели в Европе; христианство, получившее широкие права во время войны, снова утратило общественный авторитет. Колониальная политика Советского Союза шла в противоречие с принципами гуманизма и республиканизма; Пикассо и Камю вышли из компартии.
Холодная война вывела Советский союз (и российскую культуру тем самым) из процесса культурного обновления Европы; Европейский Ренессанс локализовался, впрочем, это был еще не конец. В 1968 году Аурелио Печчеи основал Римский клуб — с намерением формулировать общие, глобальные проблемы, стоящие перед миром: не только перед Европой, но прежде всего перед Европой — еще существует надежда, что европейское единство даст пример всем. Тот короткий срок, что был отпущен этому лабораторному эксперименту, развивался интенсивно. Прежде всего процесс обновления коснулся Италии, Франции и Германии.
Суммируя эти разрозненные, но оттого не менее страстные усилия выработать общий для Европы гуманистический дискурс, несмотря ни на что, вопреки политическим интересам, памяти войны, вопреки национальным амбициям и идеологиям, помимо Ренессанса, обсуждавшего социальное устройство общей республики, приходит на ум опыт Парижской школы начала ХХ века. То был Ренессанс Латинского квартала.
Срок Ренессансу Латинского квартала был отмерен не только вторжением стран Варшавского договора в Чехословакию (1968), но и французской революцией левых, направленных против общества потребления (1968), которую справедливо сопоставить с флорентийской революцией Савонаролы против разврата Медичи. Решающим фактором было расширение влияния НАТО, влияние Америки, и меры защиты, закономерно принятые против возможной агрессии социалистического блока. В этих условиях концепция Ренессанса, христианского демократизма и гражданского гуманизма если и не теряла актуальности, то уже не являлась политической силой.
Как бы то ни было, эти двадцать пять лет уникального состояния республиканских идеалов (ср.: двор Лоренцо Медичи во Флоренции существовал 23 года) произвели особенных мыслителей, писателей, художников и режиссеров. Некоторые из них работали и сложились во время войны; это лишь сообщает необходимую преемственность.
Прежде всего следует упомянуть Франкфуртскую школу: Адорно, Маркузе, Хоркхаймера; католических мыслителей Жильсона и Маритена; историков Анналов, пришедших на смену Люсьену Февру и Марку Блоку: Ле Гоффа, Броделя и Дюби; экзистенциалистов Сартра и Камю; итальянских неореалистов Феллини и Пазолини; германских писателей Белля, Брехта, Грасса, французских художников Пабло Пикассо, Бюффе, Бальтюса. Брассенс и Брель не просто шансонье, они воскресили Вийона. Жанр городского фольклора и романса рождает в России крупнейших менестрелей: Высоцкого, Галича, Окуджаву. По стилистической свободе менестрели превосходят поэтов Серебряного века и современных им профессиональных «поэтов». В России публикуют «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, открывается вторая, скрытая от общества реальность лагерей, не уступающая по значению опыту войны.
Фашизм оставил после себя пепел, коммунизм — страх, германская культура повержена вместе с Германией: расчищая пепелище, обнаружили не только «Майн кампф», но и сочинения Ницше, Юнгера, Вагнера, Хайдеггера — оказалось, все они виноваты. Хорошо бы вернуться к дивному немецкому Просвещению — но ведь Ницше с Вагнером как раз и вышли из немецкого Просвещения.
Чтобы философствовать о морали и политике, надо определить ряд категорий (универсалий), вовлеченных в рассуждение, — решить, что такое справедливость, право, истина, общество, и так далее. Однажды Сократ начал рассуждать о том, что такое «справедливость», и в результате долгого диалога возникла концепция возможной республики, но что такое «справедливость» вне этой республики, так и не выяснили. Это непростой путь для выяснения истины, но другого нет.
История оперирует фактами — но субстанция «история» больше, чем набор событий, это система событий. Установив алгоритмы системы, можно догадываться не только о том, что будет, но угадывать причины прошлого, предсказывать назад. Важно, чтобы система работала в обе стороны — и в прошлое, и в будущее. Людям систематизируют факты, чтобы весь человеческий род, подобно отдельной особи, обладал самосознанием, чтобы насилие и зло получили оценку. Что касается философии, то это система систем; философия — это описание космоса, наполненного универсалиями, системами. Каждая из анализируемых философом категорий (будь то история, время, пространство, сознание и т. д.) внутри самой себя уже осуществляет возвратное движение от конкретного к абстрактному, но синтез универсалий представляет собой вечно меняющийся порядок.
Перед послевоенной Европой стояла задача: вычленить ту систему, которая защитит от произвола идеологии.
В послевоенные годы популярностью пользовался экзистенциализм в его французском варианте. Философские системы Сартра или Камю (мыслители оппонировали друг другу, но в данном рассуждении это не важно) возвышают наличное бытие человека до образа мыслей, который индивид как будто бы выбрал сам, хотя индивид часто не может определить оснований выбора. Протест против насилия — очевидное благо; но протест во имя чего? Человек — это не абстракция, настаивает экзистенциализм, человек — это не идея. Бороться следует не за абстракции, субъект становится функцией своего сопротивления, но чем определен выбор сопротивления — не проговорено, это и не важно, времени нет выяснять. Вероятно, выбор вызван моральной константой индивида, а таковая возникла как результат опыта и воспитания; но если предыдущий опыт недостаточен для формирования морального сознания? Тогда следующий шаг борца будет новым шагом к насилию; когда герои Сопротивления вели сквозь Париж женщин, обритых наголо, осужденных за то, что согрешили с немецкими солдатами, — это тоже был акт свободы.
Эрих Фромм (Франкфуртская школа философии) сформулировал вопрос так: «Свобода от — или свобода для?» Книга «Бегство от свободы» Фромма составляет странную пару с огромным романом Сартра «Дороги свободы» — и оппонирует ему: погибнуть за «правое дело» недостаточно, надо знать, какое именно общество оперирует понятием «право»; а общество устроено сложно.
Теодор Адорно, один из основателей Франкфуртской школы, высмеивает риторическую пьесу Сартра «Дьявол и господь Бог». Сюжет пьесы таков: жестокий полководец времен Крестьянских войн, пролив реки крови, вдруг прозрел и решил построить на пепелище человеколюбивую коммуну; он выбрал добро! Однако коммуна, которую строит Гец Железная рука, не может существовать в окружении врагов, тогда полководец снова обращается к привычному ремеслу — убийству. Это опять-таки его свободный выбор, основанный на том, что убийство — единственное, что он умеет делать хорошо. Человек в системе экзистенциализма равен своим поступкам, его сущность формулируется обстоятельствами и тем самым формулируется прошлым; «человек прикован к скалам своего прошлого», как выражался Адорно.
Европа после Второй мировой войны пожелала положить в основу закона мораль. Для этого следовало отказаться от балласта идеологий, однако именно идеологии составляют политическую историю государств. Философия была призвана идеологию заменить; Александр Великий звал в учителя Аристотеля, такое бывало.
Франкфуртская школа не порывала с прошлым, но читала книги предшественников заново. Не быть рабом прошлого — не значит отвергнуть прошлое (традицию, культуру, историю). Мысль живет традицией, вне традиции нет мышления. Лозунги «Теперь!» (этот повелительный возглас Jetzt!) или «Прославим сегодня и забудем вчера», которыми опьяняет себя политический авангардист, — самые опасные, считает франкфуртский философ. Мысль о свободе не свободна — это необходимый для занятий философией предикат; вне принуждения мышление не существует. Противоречие свободы и мышления неустранимо; мысль есть следствие череды самоограничений, одним из которых является приказ философского сознания — не останавливаться в рассуждении: мысль обязана быть бесконечной, неостановимой внешней выгодой. Остановленная философская мысль превращается в оружие диктатуры — в идеологию.
Противостояние философии и идеологии существует очень давно: спор между софистами и философами — давний спор. Софист это тот, кто пускает философию на службу моменту, софист — это идеолог. Софист обучает ораторскому ремеслу, учит, как приспособить мудрость для управления.
Оппонентом Сократа всегда выступает софист (Горгий, Протагор или Гиппий), представляющий нам идеологическую версию мысли. Оппоненты Сократа уверены в правоте: для них познание — это инструмент, такой же как молоток или колесо. Если получилось управлять, значит истина достигнута. Классическими софистами были Сталин и Троцкий, манипулировавшие марксизмом; Черчилль и Кеннеди, манипулировавшие демократией. Сократ же в споре с софистами показывает логику философа — сомневается всегда, предела мысли нет, и прервать «ткачество» (немецкий философ Адорно определял философию как непрерывную пряжу духовного полотна, занятие философией называл «ткачеством») нельзя: эйдос постоянно вырабатывает новые смыслы. В тот момент, когда сомнений в истинности уже нет, философия превращается в свою тень, становится идеологией.
Таким рассуждением занята послевоенная Европа, однако обществу, которое хочет стать государством, требуется идеология, а идеологии требуется искусство, которое данную идеологию воплощает. И эта простая рабочая истина прерывает любые дебаты.
Общество уверено, что у него имеется философия (так, советское общество полагало, что живет по заветам марксистской философии, а Гитлер руководствовался Ницше), но требуется государству именно идеология — а философия (не только империи, но даже и республике) не нужна, поскольку не нужно сомнение.
Остановить процесс философствования пытаются постоянно: солдат, убивший Архимеда в Сиракузах; афинский суд, приговоривший Сократа; Франко, согнавший Унамуно с кафедры; Ленин, выславший философов из России, — все они, собственно говоря, постулировали одно и то же: для управления нужна не философия, но идеология.
В трансформации философии в идеологию повинны прежде всего сами философы (см. дидактическую, императивную мысль Гегеля), и сможет ли бескорыстная, не заинтересованная в своем торжестве философия построить государство? Философии ведь не нужна победа, а без победительной идеологии как строить? Франкфуртская школа попыталась это сделать — то был несомненно утопический проект.
Продолжение главы по ссылке.
На фотографии — Жан-Поль Сартр, середина 60-х гг.


