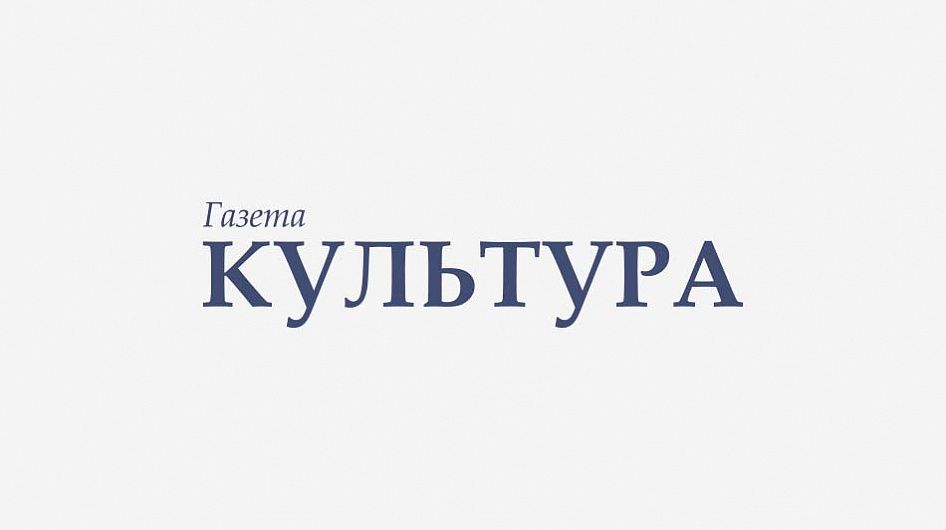
Это сладкое слово — импрессионизм
В Москве на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик» открылся Музей русского импрессионизма. События ждали два года: проект анонсировали еще в 2014-м.
Часть публики, включая автора этих строк, шла на показ с замиранием сердца: на рубеже XIX–XX веков в отечественном искусстве творилось волшебство. Из «плавильного котла» той эпохи вышли и «мирискусники», и авангард, позже — конструктивизм и даже частично соцреализм. Доказать, что существовал русский извод импрессионизма, стало одной из целей нового музея, основателем которого является коллекционер Борис Минц.
Бывший склад сухого молока и сахара британское архитектурное бюро John McAslan + Partners превратило в светлое удобное здание, снаружи отделанное серебристым металлом. Внутри — три этажа выставочных площадей. Нижний отдан под постоянную экспозицию: здесь разместилось 80 полотен. Два верхних занимают работы почти забытого художника Арнольда Лаховского. По словам Юлии Петровой, директора музея, зрителей ждут три-четыре временные выставки в год:
— Сверхзадача — чтобы о русском импрессионизме заговорили как в России, так и за рубежом. И наше искусство перестало ассоциироваться только с иконами и авангардом.
Еще до открытия некоторые картины показали в регионах, а также за границей: в частности, они с успехом демонстрировались в Италии и Германии. Столица встретила появление новой институции по-разному: благосклонно отнеслась к необычному павильону и чуть строже — к самой коллекции. Больше всего нареканий вызвал термин «русский импрессионизм». И немудрено. Прежде всего, он ассоциируется с работами Коровина и Серова, крайне самобытными, но пока в постоянной экспозиции художники занимают скромное место. Коровин представлен «Гурзуфом» (1921), здесь нет свойственной ему яркости красок, буквально обжигающих зрителя. А Серов — небольшим этюдом «Окно» (1888), для мастера портрета тоже не показательным.
Из других авторов, попавших под влияние импрессионизма, можно выделить Юрия Пименова (со знаменитыми «Мокрыми афишами» 1973 года) и Николая Тархова — мало вписывающегося в какие-либо рамки, но все же перекликающегося с Ван Гогом. Есть и любопытные находки. Например, Дмитрия Налбандяна публика знает как официального портретиста. Здесь же предлагают полюбоваться на неожиданно свежее, яркое изображение Димитриуса Лонго, созданное будто за один сеанс (1959). Еще один сюрприз — камерная работа Петра Кончаловского «Каток «Динамо» (1948): уютная и отличающаяся по манере от висящего здесь же пышного натюрморта («Всякие цветы», 1939).
Впрочем, хватает и картин, которые мало соотносятся с представлением об «импрессионизме»: хоть русском, хоть французском. Это касается некоторых произведений Арнольда Лаховского. На подобный промах музею будут указывать не раз. И здесь есть две стратегии. Либо настаивать на жестком понимании термина и подгонять под него выставки. Либо дать волю чувствам и показывать все трепетное, роскошное, красивое, появившееся в русском искусстве XX века и не ставшее мейнстримом. А понятие «русский импрессионизм» отдать на суд истории.



