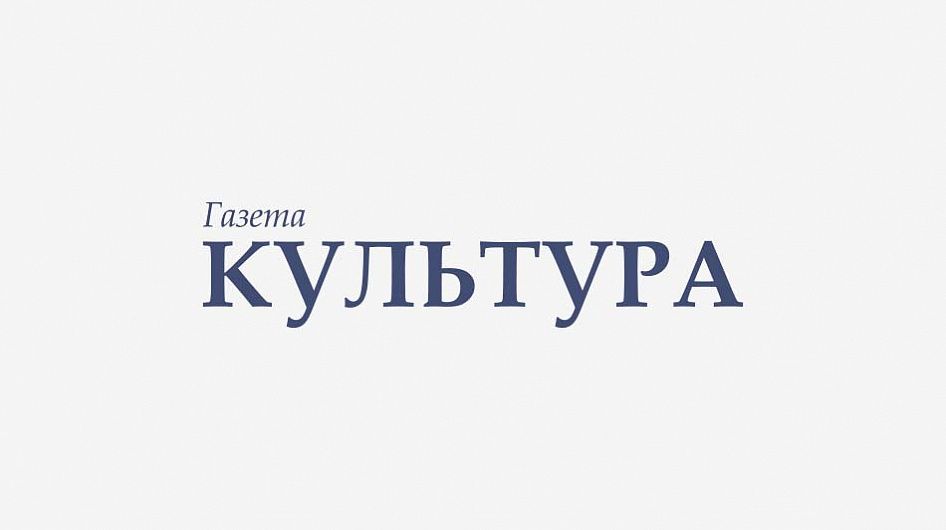
«Двадцать километров улыбок»
Свидетельства очевидца о том, как встречала советских солдат освобожденная Прага
В конце января 2014-го, когда страна отмечала 70-летие снятия ленинградской блокады, наша газета публиковала фрагменты дневников военкора Арифа Сапарова. На пороге юбилея Великой Победы мы возвращаемся к этому уникальному документу и предлагаем вашему вниманию записи, датированные февралем — маем 1945 года. В это время Ариф Васильевич Сапаров работал заместителем главного редактора газеты 3‑й гвардейской армии 1-го Украинского фронта «Боевой товарищ». Дневники предоставлены сыном журналиста искусствоведом Мирсаидом Сапаровым.
12 февраля
Крейцбург, Силезия
«Вот она, проклятая Германия!». Такой плакат повешен на мосту, разделяющем польские и немецкие земли. С этой мыслью и вступаешь на землю врага. Говорят, что какой-то кавалерийский эскадрон спешился около этого плаката, выстроились кавалеристы по команде и плюнули на немецкую землю. Затем эскадрон перешел границу. Не знаю, правда ли, но факт весьма интересный для большого романа о наших днях.
В полдень, восседая верхом на ящиках с минами, я вступил на территорию Германии. Денек, как нарочно, выдался пасмурный, холодный, с пронизывающим насквозь ветром и низко плывущими свинцовыми тучами. В воздухе кружились редкие ленивые снежинки, все окрест казалось каким-то черным, зловещим и неприветливым. Должно быть, от погоды и мыслей моих Германия показалась мне черной страной, безлюдной пустыней.
Возле самой границы начались аккуратные, крытые черепицей и по линейке выстроенные поселки и деревни, всякие альбрехткнауты и густавфельды, некоторые дома разрушены и сожжены, но очень мало. На некоторых трепыхаются бело-красные польские флажки и из труб вьется жилой дымок. Это местные или онемеченные поляки являют свою союзную экстерриториальность. Впрочем, говорят, что многие немцы теперь охотно перекрашиваются под поляков, лишь бы избежать гнева русских.
Первым немецким городом, через который мы поехали, был Розенберг. Он почти полностью разрушен и ничем не примечателен. Узкие улицы, пестрые вывески магазинов, угловатые какие-то дома.
Следующим городом был Крайсбург, где расположены теперь фронтовые учреждения. Крайсбург наполовину цел и значительно больше Розенберга. Здесь увидел и первых штатских немцев. Они убирали улицы, заваленные всяким мусором, бледные, злые, кривоносые, тонкошеие, похожие на сказочных упырей. На улицах были развешены зеленые листки Приказа № 2, обязывающего всех немцев мужского пола явиться на трудовую повинность.
Город распотрошен — так можно сказать о его состоянии. Из него выпущены кишки и за ненадобностью тут же выброшены. Нет ни одной целой витрины, ни одного не выбитого стекла. В магазинах хаос, нагромождение каких-то битых и целых вещей и предметов. Зачем-то выброшены на улицу стулья, обломки каких-то статуй, обрывки материи, какие-то книги и листки.
Как я и предвидел, наши не столько забирают, сколько портят. Много в этом бессмысленного, стихийного и в то же время глубоко справедливого. Это и есть возмездие! Пусть уцелевшие немцы ужаснутся, посмотрев на то, что останется от этих аккуратных городов, пусть их сердце защемит невыносимая тоска, какую испытал я, заходя год назад в свою сожженную обитель…
5 мая
Второго мая был взят Берлин. Третьего во второй половине дня мы с Агафоновым въехали в него с южной окраины. Впечатления этого замечательного дня исключительны. Во-первых, огромные толпы пленных, старшие офицеры при высоких фуражках и в погонах — в колясках, конвоир — обязательно какой-нибудь флегматичный усач старикан, который плетется где-нибудь позади. Во-вторых, любопытные и боязливые толпы берлинцев. Подлетают, едва поманишь пальцем, услужливость исключительная, истово метут улицы и убирают щебень и обломки.
Окраина более или менее цела. Но зато центр обработан замечательно. Это какой-то апофеоз разрушения. Асфальта, мостовых нет, все покрыто мелким щебнем, а в нем, как в снегу, следы автомашин. Домов нет, одни столбы, обгоревшие, страшные, как дурной сон.
Мы, конечно, спешили начать осмотр с Унтер-ден-Линден. Пока искали эту знаменитую улицу, наткнулись на Бранденбургские ворота. Сооружение сие во многом уступает нашим ленинградским триумфальным аркам, как-то казеннее, суше. Колонны еле держатся, так они раздолбаны снарядами. Колесница триумфатора опрокинута, и на ней красный флаг победы. Проезды загорожены деревянными завалами, которые с истовым рвением разбирают первые попавшиеся прохожие немцы. Конечно, не по собственной инициативе.
У Бранденбургских ворот, где мы решили сфотографироваться, уже стояло много автомашин с нашими офицерами. Доморощенные «лейкачи» щелкали каждую минуту. Ну, щелкнули и мы.
К нам, вежливо приподнимая шляпу, подошел какой-то немец. Юдин, наш знаток немецкого, приготовился с ним изъясняться, однако немец заговорил на ломаном русском. Оказывается, он был в русском плену где-то в Сибири, очень высокого мнения о нас.
— О, русские очень хорошие люди… Я всегда это говорил… В заключение немец показал нам какую-то бумажку. Он ею запасся от двух русских военнопленных, работавших в его мастерской. Те по глупости сообщали, что их хозяин — весьма гуманный человек, не без либеральных идей. Показав нам эту бумажку, немец вежливо раскланялся и ушел.
Налево от Бранденбургских ворот начинается знаменитый Тиргартен с памятником Победы в конце, а направо — Унтер-ден-Линден. Знаменитый парк изрядно пострадал. Деревья поломаны, расщеплены, сучья их точно кто-то обглодал. Вдобавок весь парк заставлен нашими самоходками, которые стоят в нем, как какие-то доисторические животные. Тут же в изобилии валяются мертвые немцы, брошенные противогазы и фаустпатроны, какие-то тряпки и обрывки. Обычная картина боя.
Памятник Победы величав. Если сравнивать с Ленинградом, опять-таки послабже Александровского столпа. Главным образом безвкуснее. Победа изображена в виде женщины из позолоченного металла. Фигура непропорционально велика по сравнению с колонной. На ней также водружен флаг победы. Вообще этих флагов в Берлине более чем достаточно. Даже на деревья в Тиргартене накинуты красные полотнища.
Вокруг памятника в круг, будто для хоровода, установлены мощные танки. Тут же беспрерывно идут фотосъемки. Кто забавляется пусканием ракет. Сфотографировались, конечно, и мы.
Об Унтер-ден-Линден можно сказать только одно: была когда-то улица, может быть, и красивая, а теперь остались одни руины да металлические дощечки с названием. Возле одной из них мы опять-таки сфотографировались. На Унтер-ден-Линден еще полыхали пожары, языки черного дыма и пламени поднимались высоко к небу. Что же касается знаменитых лип, то они нас определенно разочаровали. Во-первых, большинство из них снесены с лица земли, а во‑вторых, какие же это липы — крохотные, тощие, одна слава, что липы. Наши дорожники окрестили Унтер-ден-Линден по-своему, назвав ее «Унтер фон».
С Унтер-ден-Линден мы свернули на Фридрихштрассе, затем проехали по Вильгельмштрассе и попали к Имперской канцелярии. Рядом с ней дом Геббельса, а чуть поодаль здание Рейхстага. От геббельсовских палат почти ничего не осталось — прямое попадание. Рейхстаг тоже сильно пострадал. Что же касается Имперской канцелярии, то каждая ее зала и комната были ареной кровопролитного боя. Сразу мы попали в знаменитую приемную, похожую на тронный зал с мраморными стенами, верхним светом и огромной дверью, украшенной черной свастикой. Вдобавок канцелярия горела, где-то в подвалах бушевал огонь. Воды в Берлине нет. Какие-то немки в белых фартуках с повязками Красного креста передавали ведра с водой по живому конвейеру из колодца на дворе. Мы походили по комнатам — везде одно и то же — все разрушено, обвалы, груды кирпича, перевернутые столы.
Во дворе Имперской канцелярии в каком-то котловане — груда мертвецов. Тут же обгоревшие танки и броневики. Тут же веселый ажиотаж возле входа в подвал. Входа, вернее, нет, просто огромной воронки, обнажившей подземелье, в которую и прыгают охотники за вином и прочими трофеями.
Один авиационный майор, герой с пятью орденами Красного знамени выскочил из воронки с грудой какого-то тряпья.
— Вот! — кричит он — одно мелковьё!
Другой разыскал фашистский сюртук из желтого материала с большой красной повязкой на рукаве.
— Личный пиджачок Гитлера, — объявляет он обрадованно.
На улице какой-то лейтенант показывает мне желтое шерстяное одеяло, всерьез уверяя, что взял его с кровати Геббельса.
Привезли и мы из этого подвала несколько бутылочек винца, среднего качества, между прочим.
На обратном пути проезжали мимо колоссального здания Министерства авиации и Темпельгофского аэродрома. И то, и другое, действительно, грандиозно.
В общем, Берлин производит впечатление, хотя и лежит в развалинах.
— Ничего городишко, — как сказал флегматичный Спиридон.
* * * * *
На обратном пути видим еще одно примечательное зрелище. Одна из огромных колонн пленных немцев остановилась в открытом поле вблизи автострады на ночлег. Ехали мы уже поздно вечером, с фарами. И вот картина: в темноте сотни костров, как перед Бородинской битвой, а вокруг них тысячи озябших, полуголодных фрицев.
Ей-богу, стоит четыре лучших года жизни отдать, чтобы увидеть такие картины! Поверженный Берлин, пленные немцы на полевом бивуаке, удивительно быстрая приспособляемость наших людей к положению победителей.
Пленных немцев сейчас можно повстречать где угодно. Переезжает какой-нибудь госпиталь или банно-прачечный отряд. На подводах вперемешку с нашими бойцами восседают немцы, в форме, при погонах, и никого это не удивляет. Все убеждены, что так, собственно, и должно быть.
* * * * *
Вот уже вторые сутки мимо редакции движется бесконечный поток танков, самоходок, студебеккеров и просто разных машин. Движется безостановочно, на юг. Сегодня начинают, а через семь дней мы должны быть в Праге.
Злата Прага! Злата Прага! Последняя европейская столица, которую еще нужно освободить.
7 мая
Наступление идет бешеным темпом. Переезды каждый день. Причем на большие расстояния. Сегодня приехали в село Вёлькиш — это уже Саксония. Село отвратительное: грязища на улице и в домах, расположено в низине, по улицам бродят одичавшие свиньи.
На этом основании мы уже было заключили, что Саксония самая неприятная из всех немецких провинций.
— Тот горя не видал, кто в Саксонии не бывал, — появилась и поговорка.
Но всем этим предположениям не суждено было оправдаться. Cдав материал о Зое Космодемьянской (фото получилось недурно, с пропагандистской стороны сильно), я вечером вместе с Кругляковым выехал в командировку. Только выскочили из этого захолустного села, как очутились на великолепнейшей асфальтовой дороге, бегущей вдоль обрывистых живописных берегов Эльбы. За каждым поворотом, после каждого подъема, а их тут до черта, открывался все более замечательный пейзаж. Вот так Саксония!
По этой дороге мы доскакали до города Мейсен, расположенного также на Эльбе. Осматривать его не пришлось, Мейсен взяли только утром. В центре города, возле строящейся переправы полыхал огромный пожар.
Полковник на переправе, указывая на толпы любопытных немцев, говорил:
— Подожгли сволочи, к ночи глядя!
«Сволочи» стояли возле пожара густыми толпами, удивленно глядя, как полыхает пламя. На переправе работали наши саперы, какие-то французы, власовцы.
Город Мейсен очень красив. В отличие от других городов Германии много памятников, причем каким-то гражданским, а не военным деятелям. Крутые улочки из особняков, с одной стороны обрыв, с другой — каменные стены, как где-нибудь в Гаграх или Севастополе. Много зелени. Когда смотришь на город с холма, домов почти не видно, все утонуло в парках и садах.
Город набит немцами. Живут даже в ванных комнатах. Беженцы, главным образом. Здесь мне рассказали забавный эпизод, как один наш солдат просил у немки молоток. Не зная ни слова по-немецки, он решил объясняться жестами и стал бить кулаком правой руки по кулаку левой. Видимо, произошла какая-то путаница, или этот жест был похож на другой, специфический и международный. В общем, немка ни слова не говоря, легла на кровать, раздвинула ноги и вопросительно уставилась на оторопевшего солдата.
Из Мейсена мы полетели в 58‑ю стрелковую дивизию. Круглякова в эту славную дивизию тянет как магнитом. Искали ИП дивизии, а вместо него попали в батальон, а затем в штаб 31-го полка. Уже вечерело. Штаб расположился во дворе какого-то поместья. На дворе ярко горели костры. Возле них сидели наши солдаты и разноплеменный табор освобожденных людей: французов, англичан, бельгийцев… Все языки Европы звучали у этих костров.
Познакомился с командиром полка полковником Максаковым. Уже немолод, голос хриплый, простуженный, солдатское суровое лицо, которое изредка озаряется добродушнейшей, беззубой улыбкой. Бритоголов, гостеприимен. Полковник сразу же пригласил посидеть на допросе пленных. Их привели целую кучу.
Допрашивают обер-лейтенанта Вильгельма Кляузе. Бойкий парень, трещит как из пулемета. Насмотрелся всех ужасов, все надоело, солдаты предпочитают нам союзников, офицеры еще размахивают оружием, и т. д., и т. п., все надоевшее.
Неожиданно выясняется, что лейтенант в свое время был под Тулой, где сражался тогда и полковник. Разговор принимает более оживленный характер. Тула, Смоленск, Минск, Варшава, Одер, и, наконец, южная граница Германии — идти больше некуда, отступать некуда.
— Сколько же вы пар сапог сносили в этих походах? — спрашиваю.
— Айн, цвай, драй, — пленный сосредоточенно вспоминает, считая на пальцах, — шесть пар, господин майор.
Потом добавляет:
— Прошу еще учесть, что целый год я был шофером и пешком почти не ходил.
Так кончается эта мировая трагикомедия. Изношено шесть пар добрых солдатских сапог, проделаны тысячи километров и в итоге — плен, разгром, банкротство. Как ни тупы немцы, все же должны задуматься: для чего же все это?
8 мая
Незабываем был последний день войны. Он надолго врежется в память каждого фронтовика, день, когда выглянуло, наконец, и засияло во всем своем великолепии ослепительное солнце победы.
Есть новости, которые распространяются быстрее радио. Должно быть, еще приземлялись самолеты на Темпельгофском аэродроме, еще не высохли чернила на официальном акте, еще произносил Жуков свою знаменитую фразу, заставляя Кейтеля подойти к своему столу, а в войсках уже разнеслось:
— Германия капитулировала!
Было часов девять утра. Измученные длинным переходом, мы подъезжали к селу Кольмитц. В это время вернулся командир дивизиона и сообщил, что какой-то проезжавший офицер сказал, будто Германия капитулировала.
Что-то дрогнуло в сердце, как тогда, в первый день войны.
— Неужели? Неужели дожили до такого дня?
Никто не подтверждал эту новость официально, но никто и не опровергал ее. В течение дня я беседовал со многими офицерами и солдатами. Все были возбуждены. Переспрашивали друг друга. Каждый час рождались все более сенсационные новости.
Полковник Головин сказал мне:
— Знаете, и хочется верить и не верится. Неужели конец? Мы так много думали об этом, что теперь ошалели. Это как под Глогау. Полтора месяца крови, невероятной трепки нервов, терзаний, бессонницы. Наконец, взяли город. Представьте себе, еду по его улицам и не верю, что взяли: неужели?
Так приблизительно думали все. День был какой-то невероятно шальной, все на нервах. Шоферы быстренько украсили свои машины цветами, и даже флегматичные повозочные раздобыли кумача и понавешали на телегах флаги. Все чего-то ждали…
С полдня начала усиленно работать наша авиация. Все небо гудело. Шли девятками, полками. Немецкие белокурые мальчишки, задрав головы, считали: айн, цвай, драй… Появление авиации тоже подтверждало эту новость. Неспроста же так усиленно работают: последние часы…
Много интересного видел я в этот день наступления.
Еще накануне пленных конвоировали. Сегодня конвоя нет. Фрицы нацепили на рукава белые повязки и прут в плен самоходом. В одном месте нам повстречалось восемь фрицев на велосипедах, прут как ошалелые.
— Куда?
— До хауз!
В другом месте кучка фрицев заснула в телеге. Их разбудили. Фрицы залопотали, что идут в плен, просят хоть какую-нибудь бумажку.
Народ наш отходчив. Пленные ни в ком уже не вызывают злости. Наоборот, обращение с ними самое добродушное, а нет, так просто безразличное.
Много, особенно в районе Кольмитца, оказалось французов, итальянцев, бельгийцев, англичан. Где-то поблизости находился, видимо, лагерь для военнопленных. Большей частью молодые, молодцеватые и статные парни. Если посмотришь на него, обязательно улыбнется и отдаст честь. Тоже радостно возбуждены. Бог знает как, но и до них дошла весть об окончании войны.
Весь этот день я мотался как угорелый, пытаясь получить достоверные данные. Но никто не мог сказать мне ничего определенного. Рассказывали, что приезжал член Военного Совета и якобы поздравил генералов. Говорили, что кто-то слушал лондонское радио. Вдобавок пошли слухи, что капитулировал гарнизон Дрездена и взята Прага, от которой мы были еще в сотне километров.
Чтобы узнать определенно, поздно вечером я подался в редакцию дивизионной газеты. С великими трудностями добрался, но там меня ждало разочарование.
Был первый час. Cпокойнейший из газетчиков, секретарь редакции сообщил, что переданы три приказа Сталина и, стало быть, никаких внеочередных сообщений сегодня уже не будет. Иначе зачем же приказы.
Плюнув с досады, я завалился спать.
9 мая
И все-таки — война окончена!
В три часа ночи разбудили.
— На, читай!
Спросонок ничего не могу разобрать. Акт о капитуляции Германии, подписи: Кейтель, Жуков, Теддер. Наконец, дошло!
Значит, конец! В зобу, как говорится, дыханье сперло!
Рано утром с первыми оттисками выехал в полки. Не отъехали и пары километров, как застряли в пробке. Страшное столпотворение, обозы, машины, артиллерия, пехота. Все в красных флагах. И вдруг целая пальба открылась, будто бой идет. Из револьверов, автоматов, винтовок, у кого что есть — все палят в воздух, крики «ура!», объятья, поцелуи, возбужденный блеск глаз. Сумрачные, усталые солдаты наши будто преобразились: каждый смеется, шутит.
С трудом пробились сквозь эту необычную пробку. Газеты вырывали из рук. Какой-то комбат по запорожскому обычаю поставил перед собой ведро с горилкой и по очереди угощал своих солдат. Те с удовольствием подходили, крякали, смущенно улыбались. Будьте спокойны, такого комбата никогда не забудут!
В противотанковом дивизионе, куда мы прибыли с газетой, уже готовились к построению. Великолепное весеннее солнце заливало все светом. На зеленой лужайке рядом с разукрашенными до последней крайности пушками и автомашинами стояли молодцеватые солдаты.
*****
Такова уж доля газетчика, особенно, если у него беспокойный характер. В первый же день мирной жизни мне пришлось вдоволь хватить мытарств, чтобы попасть в свою редакцию. Машины своей не было. К тому же неизвестно, где редакция.
Долго стояли с Кругляковым на перекрестке, пыльные, голодные. Мимо все шли тяжелые, груженые машины, а навстречу им — немцы. Один особенно запомнился: лысый, босиком, во рту сигара, за плечами рюкзак. Подошел к регулировщице и деловито так осведомился:
— Как пройти на Дрезден?
Регулировщики ко всему привычный народ. Поставь его в Нью-Йорке где-нибудь на Бродвее управлять уличным движением, он и там не растеряется — будто всю жизнь на этом деле пробыл. Не удивило регулировщицу и обращение немца. Молча, рукой она показала фрицу дорогу. Тот пыхнул сигарой и поплелся дальше.
Вечером прикатили аж на танке в редакцию. Только умылся, как первая приятность: в девять часов вечера выступал по радио Сталин. Речь очень маленькая и очень простая — не в пример тому, что было 3 июля 1941 года.
Слушали, аж готовы были съесть глазами приемник. Заключительное: «С победой, дорогие мои соотечественники и соотечественницы!» — прозвучало как знаменательный итог, плод четырехлетних страданий народа и каждого из нас.
9 мая был нашим последним днем в Германии.
10 мая
День полон впечатлений: одиннадцатичасовой переезд, Карпаты, дорожные впечатления, чехословацкая столица Прага и незабываемая на всю жизнь встреча. Редко бывают такие дни. Во всяком случае, в конце их лучше не садись писать, все равно ничего не напишешь.
Однако начну по порядку. Выехали мы со Спиридоном часов в девять утра. Решено было вначале ехать до чехословацкого города Гробице, однако в дороге, на одной из карпатских вершин нам сообщили, что командарм приказал первому и второму эшелонам следовать прямо до Праги.
Ну что же, Прага так Прага, мы люди военные, поехали.
Дорожные впечатления были на каждом километре. Возле Кайзинга, пограничного местечка, встретили следы побоища. Обгоревшие и целые автомашины, мерседесы и опели, опрокинутые под откос, с неестественно задранными задами. Наш шофер Курбатов не сможет спокойно ехать:
— Товарищ майор, может захватим опелек?
В Альтенберге образовалась пробка. Город горел. Машины сгрудились возле горящих домов — и не вперед, ни назад, а пожар с каждой минутой все грознее. Еле вырвались и снова застряли на окраине. Позади грохотали страшные взрывы, грохотали «фаустпатроны». Истеричные крики, дымище, пламя, а кругом горы, покрытые лесом — феерическое зрелище.
Карпаты живописны, но как-то все же разочаровывают. Столько о них слышал, столько читал, ожидал черт знает чего, а тут благоустроенная культурная дорога, нарядные коттеджи с водопроводом и ваннами, чуть ли не каждое дерево занумеровано. Все же хороши эти зеленые горы, покрытые дымкой.
В Циннвальде — граница. Наполовину город немецкий, на другую — чехословацкий. Никакой границы, собственно, нет, в обычном понимании этого слова.
В горах, возле взорванного моста встретили особенно большую колонну немцев. Идут без конвоя. Вперемешку с ними какие-то женщины, очевидно, немки, с плачущими детишками. Мост еще не восстановлен, устроен настил. Маленькая девочка подошла к нему, держась за юбку матери, нагруженной тюками, и заплакала от страха, не решаясь ступить. Какой-то наш боец подхватил ее на руки и заботливо перенес через настил. Разве мог бы такой убить ребенка. Пленные немцы проходят молча. Они все видят, может быть, что-нибудь и поймут.
Тут же черноволосая регулировщица бесцеремонно хватает за рукав чем-то приглянувшихся ей фрицев и волочет к груде камней:
— Арбайтен! Арбайтен!
Мимо в это время проходят сотни других фрицев, но она упорно заставляет работать облюбованного ею фрица.
Такая упорная девушка!
Жарища. Фрицы плетутся взмокшие, потные, грязные. Седой как лунь офицер с розовым лицом младенца. Тучен, внешне спокоен и учтив. Его регулировщица тоже облюбовала. Пыхтит, обливается потом, но работает. Вместе с пленными идут их госпитальные девки. Взгляды наглые, упорные, вроде наших.
Первый чехословацкий город Дратцнов. Много трехцветных национальных флагов, много наших, флаги США и Англии, портреты Сталина и Бенеша. Город забит военными. На каждом шагу крикливые вывески. Масса домов, хотя каждый наподобие сарая. В Дратцнове нам повстречался какой-то капитулировавший немецкий отряд. Впереди его на рослых лошадях ехали два офицера в черных мундирах, с железными крестами. Вид страшно надменный, совсем не похожи на капитулянтов.
Население приветственно машет руками, кричат «Наздар!», улыбаются каждому красноармейцу.
Итак, Чехословакия! Встретила она нас страшными проблемами на дорогах. Во-первых, слишком много машин пустили по этим узким дорогам в Карпатах, во‑вторых, война окончена и ответственность водителей как-то сразу понизилась. Иной раз пробка образуется огромнейшая, а причина, если пройдешь вперед, самая дикая. Например, за Теплице-Шановым причиной пробки, да еще какой, оказался огромный полупустой лагерь для 700 женщин. Все они, в большинстве наши, вышли на волю. Страшно исхудавшие, обтрепанные, это не «рабыни» в лисьих шкурах, что встречаются в городах Германии — настоящие. У ворот лагеря остановились два танка: экипажи отправились поговорить с женщинами, а пробка растет с каждой минутой. Страшный грохот, рев моторов, пылища, ругань водителей. Какая-то девушка ходит между машин. В руках у нее ведро с холодной водой и кружка. Каждому она приветливо улыбается — уж больно истосковалась. Все ищут земляков. Находят, возбужденные расспросы. Какая-то бледная маленькая женщина горестно качает головой:
— А мне земляка не сыскать. Я ивановская…
Возле Терезина повстречался еще один концентрационный лагерь — еврейский. Евреи всей Европы — румынские, венгерские, итальянские, французские. Многие уже вышли на дорогу, остальных еще не выпускают пестрые чехословацкие жандармы. Забор лагеря облеплен людьми, как живой. Наши машины встречаются восторженными криками, приветствиями. Все изголодавшиеся. Видел огромную толпу возле полуторки, какой-то красноармеец отщипывал им по кусочку от буханки хлеба и раздавал, а сколько к нему было протянуто рук, какие жадные, нетерпеливые взгляды. К нашей машине подошла девушка изумительной красоты и попросила сигарет.
От Терезина до Праги — километров шестьдесят. Все это расстояние мы ехали по живой дороге. По левой ее стороне бесконечной вереницей шли капитулировавшие немцы — целые полки и дивизии. По правой — чехословацкие крестьяне и каждую машину встречали восторженным: «Наздар! Наздар, братику!». Летели в машины букеты сирени, полевых цветов.
Едем как на празднике. Немцы молчаливы, хмуры, устали. Чехи все нарядные, улыбающиеся, подбегают целой толпой, если остановишься. Немцы идут пешком, едут на тракторах, на санитарных автобусах, на наших телегах. Чехи большей частью на велосипедах.
Перед Прагой стало появляться много чехословацких машин, идущих навстречу. Почти все газогенераторные, с красными крестами обязательно. Почему — не знаю, видимо, из предосторожности.
Запомнилась такая сцена. В одном селе перед Прагой наши бойцы разговорились с чехословацкими девушками. Один черномазый сержант говорил, обращаясь к улыбающейся дивчине:
— Понимаешь, тут у вас и бабы лучше. Похожи на наших, по обличью и по всему другому. А что фрау? Ни тут нет (следуют выразительные жесты), ни тут ничего. Понимаешь?
Самое замечательное, что девушка все поняла и весело рассмеялась.
10 мая
Прага
Первое, что мы увидели, въезжая в Прагу часов в шесть вечера, это плакат на окраине: «Прага приветствует героев». Рядом висел другой плакат: «Да здравствует тов. марш. Сталин!». Затем мы видели очень много подобных и других лозунгов. Эти первые как бы определили содержание встречи.
Подъезжая к городу, я думал, что нас встретят хорошо, даже восторженно, но то, что я увидел, превзошло все ожидания. Наша машина буквально плыла в океане улыбок, приветствий, криков «Наздар!».
Скептический Спиридон даже придумал специальное выражение, подытоживая нашу езду по городу:
— 20 километров улыбок — это для меня многовато…
Каждый, кто в нашей форме, окружен таким радостным и восторженным вниманием, что просто неловко себя чувствуешь, сам себе кажешься недостойным. Боже упаси обратиться за чем-нибудь к толпе — подбегает столько охотников помочь, что даже страшно.
Ближе к центру народ стоял уже шпалерами, поджидая наши машины. Девушки в национальных, похожих на наши украинские, костюмах. Подбегают пожать руку, что-то быстро и взволнованно говорят, улавливаешь только отдельные слова. И как стон стоит протяжное: «Наздар».
Восторженность встречи и всеобщая ненависть к немцам прежде всего бросилась в глаза. На набережной Влтавы мы столкнулись с поразительным зрелищем. Тысячи полторы пленных немцев в плотной колонне вдруг побежали как перепуганное стадо, а сзади с криками «Шнель! Шнель!» их подгоняли желторубашечные хлопцы из местной революционной полиции. У каждого из этих хлопцев в руках хлыст, которым немилосердно хлещут по лицам немцев. Отставших в том беге, на потеху толпе, гогочущей на тротуарах, тут же добивают. Одного расстреляли на наших глазах. Я возмутился, мне объяснили:
— Вы же не жили шесть лет под немцами. Они еще вчера вырывали у наших людей сердца и выдирали ногти.
На Вацлавской улице уже к вечеру я видел огромную толпу возле картонного чучела Гитлера, вздернутого на фанерном столбе. В другом месте водрузили на кол огромную голову Гитлера, отколотую от бюста. Толпа потешается, гогочет, увидев нас, опять кричат: «Наздар! Наздар!»
Около Национального музея на Вацлавской я вышел из машины, чтобы сделать несколько снимков. Ко мне тотчас подошел невысокий старик и, вежливо приподымая шляпу, сказал:
— Господин майор, разрешите представиться. Капитан чехословацкой службы в отставке Роберт Павличек.
Мы разговорились. Вылез из машины и флегматичный Спиридон. Тут же выяснилось, что старичок некогда служил в 61‑м пехотном полку на родине Спиридона в Иркутске.
Земляки разговорились про Сибирь.
Потом Павличек вызвался показать нам достопримечательности города. Места в машине не было. Поэтому пришлось старичку взгромоздиться ко мне на колени.
Павличек привез нас в Вышеград. Это старинная крепость на холме. С ее стен отлично видна Прага. Как солидные туристы мы стали прохаживаться по асфальтовой аллее, устроенной вдоль стен. К нам немедленно присоединились еще два человека. Первый отрекомендовался председателем революционного комитета и руководителем партизан Вышеграда, второй, его приятель, был профессором права из местного университета. Затем подошел к нам еще шамкающий старичок в котелке с перекошенным лицом и неестественно белыми фарфоровыми зубами:
— Разрешите представиться, господа, — инженер путей сообщения Плеханов.
Старичок из эмигрантов. Все время шаркал ногами позади нас, говорил «… очень приятно, очень приятно» и вскоре куда-то исчез.
Новые знакомые повели нас на кладбище, своего рода пражский некрополь, где захоронены знаменитые люди. Постояли мы у могил Дворжака, Сметаны, поговорили о музыке, искусстве. Профессор права все время восторгался нашим алиментным законодательством, пока Спиридон не разъяснил ему, что оно уже отменено. Руководители партизан рассказывали о том, как в городе вспыхнуло восстание, как разоружили эсэсовцев, как ждали нас. Павличек деликатно молчал, едва заходил разговор на политические темы.
Распрощавшись с Павличеком, который сказал, что хочет ехать в Россию, чтобы там умереть, мы стали разыскивать северо-западную окраину города, где должны быть размещены штабы. Крутились до темноты, сожгли все горючее, но так ничего и не нашли.
Пришлось искать ночлега у чехов. Постучались в первый попавшийся дом. Тревожный женский голос: «Кто там?» Узнав, что русские офицеры, немедленно открывает, приветствует.
Неплохо выспались в апартаментах эсэсовцев на втором этаже. Неплохо жили, стервецы!
11 мая
Ни одной редакционной машины еще нет. Все застряло в горах, слишком тяжелый переход. Подобрал помещение для редакции, огромный домина из-под немецких дев, жду.
Выезжал на окраину встречать редактора, не встретил. Зато видел могилы жертв гестапо. 34 свежих могилы. Жарища. Цветы уже завяли. Родственники в трауре, женщины плачут. Тут же и обычная толпа зевак. И тут же шестеро немцев, обливаясь потом, таскают камни, укрепляют могилы, роют землю. Картина для Шекспира!
12 мая
Редакция понемногу собирается. Сегодня выпустил вчерашний номер в типографии газеты «Национальна Политика», самой большой в городе. Наши несчастные восемь тысяч чехи печатали на колоссальной двенадцатисекундной ротации, дающей двести тысяч оттисков в час. Наш тираж она выплюнула за 15 минут. Мы с Луговским стояли, как зачарованные, вспоминая нудное тарахтенье своей телеги. Чешские полиграфисты — смышленый расторопный народ. «Господин фактор», или по-нашему начальник цеха, неплохо болтает по-русски. Весьма критически отзывается о многих своих наборщиках и печатниках, которые вместо того, чтобы работать, шляются по городу с винтовками:
— Гулять, конечно, интереснее…
Возле музея видел примечательную сцену. Бомба разрушила дом. Щебень завалил часть улицы. Жара. Человек восемь в цивильных одеждах в поте лица расчищают щебень, а вокруг сотни пражцев часами наблюдают за их работой. Слышны иронические замечания, проклятия.
— Это немцы? — спросил я.
— Нет, господин майор, это чехи, служившие у немцев.
Итак, возмездие уже совершается.
13 мая
Редакция, наконец, съехалась. Мы расположились у моста Витязей по соседству с просторным зданием Генерального штаба. В нашем доме жили какие-то эсэсовские девки. Каждый час мимо волокут огромные колонны пленных немцев, спешащих в свой «фатерлянд». Жарища. Великолепные девушки разъезжают на велосипедах в одних трусах.
— Это есть спорт, — говорят пражцы.
У здания парламента могилы наших воинов. Они украшены флагами, хвоей. Возле них всегда толпится народ, щелкают затворы фотообъективов.
16 мая
Пражцы — праздный народ. Нигде не видел я столько бездельников и зевак. Стоит на углу выставить регулировщицу, как немедленно собирается толпа.
Сегодня Прага встречала президента республики д-ра Эдуарда Бенеша. Улицы были запружены народом до отказа. «Наздар» ревело в сто тысяч голосов.
19 мая
Я владелец роскошного итальянского аккордеона. У аккордеона 80 басов. Собираюсь разменять их на четыре добрых соска хорошей дойной коровы. Послевоенное процветание добывается в упорном труде.
20 мая
Нас навестил Симонов. С ним Кривицкий… Наши умники пригласили Симонова обедать, а затем не нашли ничего лучше, как уехать в гости к связистам.
Давно так не краснел и не чувствовал себя столь неудобно.
Симонов виду не подал. Поел супцу, побалагурил… Красивый парень, черт бы его взял.
21 мая
Дни за днями катятся. Прошло меньше двух недель мирной жизни, а все уже так привычно: и ярко освещенные окна без светомаскировки, и нарядная толпа большого города, и отсутствие опасности.
Как быстро привыкает человек! У всех на уме демобилизационные предположения и планы.
Должны же нас когда-нибудь отпустить.
22 мая
Был в пражском театре «Люцерна» на концерте украинского ансамбля, присланного с фронта. Невысокий, довольно аляповато украшенный золотом зрительный зал. Ложи и галерка на манер ленинградской филармонии со всех сторон. Вместо сцены жалкие подмостки.
Но дело не в этом. И даже не в ансамбле, очень и очень среднем.
Здорово принимали. Каждая песня, каждый танец сопровождался таким грохотом аплодисментов, такими восторженными криками «браво!», что описать невозможно. Особенно огромная овация разгорелась после трюковой пляски, коронного номера этого ансамбля.
27 мая
На площади перед Парламентом братские могилы. Трогательны надписи. По-русски и по-чешски: «Честная могила пяти славных героев Красной Армии, погибших вблизи Пражского кремля 9 мая 1945 г.». На памятниках: «Иван Григорьевич Пастухов, прапорщик, комендант трех танков».
Возле могил постоянно народ. На Староместской площади, рядом со сгоревшей ратушей, тоже могилы наших. Возле них установлен большой ящик, в который чехи обильно бросают деньги для оказания помощи семьям героев.
Сегодня открывается Национальная опера…
Все это очень хорошо, но когда же домой?


