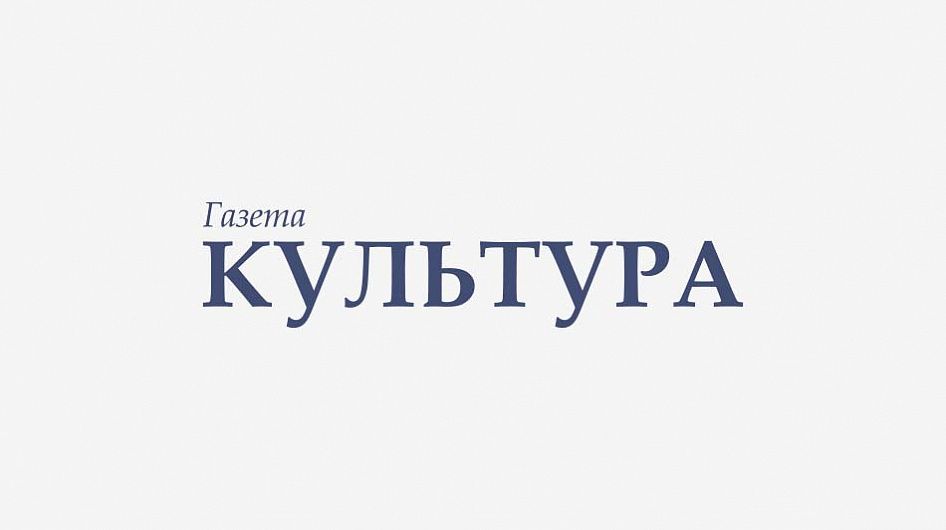
Лингвист Алексей Шмелев: «Многие явления в русской языковой картине мира представлены особенно ярко»
О том, каково своеобразие русской языковой картины мира, «Культура» поговорила с Алексеем Шмелевым, известным лингвистом, заведующим отделом культуры русской речи Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, одним из соавторов книги «Ключевые идеи русской языковой картины мира».
— Алексей Дмитриевич, давайте для начала попробуем прояснить, почему лингвисты в принципе считают возможным говорить о языковой картине мира и ее изучать. И на чем эта языковая картина, условно говоря, выстроена, каковы ее «координаты»?
— Языковая картина мира — это то, что язык подсказывает человеку. А как он подсказывает? В языковых выражениях всегда есть какие-то компоненты смысла, которые попадают в фокус внимания и обсуждаются, а есть компоненты смысла, которые кажутся носителям языка само собой разумеющимися, они не подвергают их сомнению.
Например, в русском языке различаются предлоги «в» и «на», и для носителей языка само собой разумеется, что, например, поверхность и внутреннее пространство — это разные вещи. Причем поверхности бывают разные, может быть что-то «на столе» или «на потолке». На столе — это сверху, на потолке — снизу, но важно, что это поверхность. Подобное разграничение присутствует во многих языках, но не во всех. Но это простые вещи, которые не имеют особой культурной нагруженности.
— То есть вы хотите сказать, что содержание языковой картины мира — это нечто «дорефлексивное»?
— Нет, человек, конечно, может обратить на это внимание и начать рефлексировать, но не в стандартной ситуации. Вот, к примеру, для носителей русского языка очевидно, что психическая жизнь человека подразделяется на интеллектуальную и эмоциональную. И для него интеллектуальная жизнь сосредоточена в голове, а эмоциональная — в сердце. Поэтому, когда человек что-то вспоминает, он хлопает себя по лбу, может почесать в затылке, если задумался, а если волнуется, то может хвататься за сердце. Нам кажется, что это анатомия или физиология человека, но это не так.
В этом смысле, кстати, европейские языки очень похожи на русский, хотя в английском и французском сохранились рефлексы, согласно которым память была связана с сердцем. Поэтому, например, «знать наизусть» — это буквально «знать сердцем». А по-русски никто не учит сердцем таблицу умножения, только головой.
Но есть языки, в которых всё совершенно иначе. Это могут быть даже языки, которые не связаны друг с другом непосредственно. Как, например, китайский и иврит. В последнем вся жизнь сосредоточена в сердце. Поэтому люди мыслят сердцем и на сердце приходят мысли. Эти представления об устройстве человека отражены в Ветхом Завете.
Новый Завет написан по-гречески, но поскольку большинство авторов — носители арамейского языка, который в данном отношении устроен так же, как иврит, в Новом Завете отражены те же представления об устройстве человека. И когда в переводе на какой-либо из европейских языков мы читаем «ожесточенное сердце» или «огрубело сердце» египетского фараона, для носителей европейских языков это означает, что человек не может тонко чувствовать. А в первоисточнике это, скорее всего, означает, что человек не способен что-то понять или просто туповат. Мы в этом случае скажем, скорее, «тупая голова».
Это проявляется и в наших жестах. Мы, конечно, знаем из курса анатомии и физиологии, что эмоции тоже в каких-то участках мозга сосредоточены, но для нас все равно эмоциональная жизнь заключена в сердце. Мы говорим — «любящее сердце». А вот сказать «любящий мозг» будет уже странно. Примерно так и устроены различные языковые картины мира.
— Что влияет на формирование различий в языковых картинах мира? Может быть, это история, климат, география или специфика институтов?
— Здесь мы рискуем начать разговор о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Язык сообщает нам об особенностях культуры народа, который этим языком пользуется, но вот что на что больше влияет, не всегда ясно. Например, все носители русского языка знают, что стандартный обед состоит из первого и второго. Знает, что «первым» называется суп, а «вторым» некое твердое блюдо. Это сообщает нам о сложившейся в XX веке структуре русского обеда: факультативная закуска, первое — суп, потом твердое блюдо, затем десерт.
У итальянцев похожая структура, только там в качестве первого блюда обычно бывает паста, а на второе подается твердое блюдо. Но у большинства народов обед устроен по-другому, и поэтому слова «первое» и «второе» будут непонятны. Поэтому, когда русский человек говорит «я буду первое», другой русский его понимает. А вот иностранец, не знакомый с рассматриваемым значением слова первое, его понять уже не сможет. Так сложилось потому, что такова бытовая культура народа.
Или, например, поведенческие паттерны. Скажем, еще в XVIII веке у русских не было представления о том, что плохо сообщать властям о каких-то действиях ближних, которые могут повлечь для них неприятности со стороны властей. А затем эта культура возникла. И это отразилось в отрицательной окраске слова «доносить». Хотя еще в XVIII веке Суворов писал, что дело доблести — доносить на офицеров, которые не заботятся о здоровье своих солдат. Да и у Пушкина в «Полтаве» вполне сочувственно говорится — «донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея».
Но дальше складывались отрицательные коннотации этого слова, и к середине XIX века оно стало общепринятым. И потому даже в советское время, когда доносы в 30-е годы процветали, люди не называли свои доносы именно доносами. Говорилось «сигнализировать», «поставить в известность».
В словаре под редакцией Ушакова в первом издании, вышедшем в 1934 году, была попытка как-то реабилитировать слово донос. Но в переизданиях возникло такое толкование: «донос — орудие черносотенной реакции, сообщение царскому или иному реакционному правительству о готовящихся революционных действиях», чтобы никто не подумал, что в СССР возможны доносы.
Любопытно, что уже в 2000 году газета «Известия» начала одну дискуссию статьей под названием «Человечество спасут доносчики». В ней говорилось, что надо сообщать в налоговую инспекцию, если сосед живет не по средствам. Но это абсолютно не встретило сочувствия, потому что в культуре на тот момент уже было устоявшееся представление о том, что донос — это нечто очень плохое.
— Если обращаться к нашей, русской языковой картине мира, есть ли у нее базовые точки, ориентиры, которые отличают ее от иных языковых картин мира? Скажем, тот факт, что Россия занимает достаточно большое пространство, наверное, привело к тому, что в русском языке присутствует много пространственных выражений, которые сильно отличаются от тех, что есть в других языковых картинах?
— Безусловно. Пространство имеет в русской языковой картине мира большое значение. Притом важно именно то, что это, так скажем, плоское пространство, не испещренное горами или равнинами. Это привело к возникновению слова простор, характерного именно для русского языка и определенным образом связанного со свободой.
У многих носителей русского языка есть представление о том, что человеку нужно большое пространство вокруг, чтобы чувствовать себя свободно и хорошо. И поэтому положительно окрашенными оказываются такие слова, как ширь, даль, приволье, раздолье.
В толковом словаре Даля в толковании слова свобода три раза упоминается слово простор. Для носителей английского языка, конечно, это немыслимо. Для них свобода, скорее, будет связана с выбором. Однако русский и английский языки в этом отношении интересны, потому что в каждом из них для свободы существует по два слова, между которыми обнаруживаются существенные различия. По-русски есть свобода и воля (в начале XIX века было слово вольность, видимо, заимствованное из польского языка — wolność, но впоследствии оно ушло на задний план), а в английском freedom и liberty.
Если говорить о русской паре — свободе и воле, — то, во-первых, воля осознается, скорее, как некое пространство, а свобода, скорее, как некое состояние. Свобода может быть от чего-то, воля не может быть от чего-то. Можно сказать «свобода от предрассудков», но нельзя сказать «воля от предрассудков».
И во-вторых, может быть свобода чего-либо: вероисповедования, слова. Но мы не можем в таком контексте сказать: воля. Воля в каком-то смысле абсолютна и предполагает, что мы можем идти куда хотим, двигаться как хотим и не связаны никакими законами. Не случайно есть слово неволя, которое означает некоторое замкнутое пространство, из которого человек не может выбраться.
Также не случаен выбор предлогов, с которых я начинал: мы говорим «на воле», но «в неволе», потому что «на воле» — это как бы широкое открытое пространство, а «в неволе» — это как бы замкнутое внутреннее пространство, из которого человек не может выбраться.
В советское время в официальном дискурсе использовалось только слово свобода. Когда человека арестовывали, то это было «лишение свободы». А вот слово воля в официальных источниках практически не использовалось. Зато оно использовалось в неофициальном дискурсе, в языке заключенных. Весь мир за пределами ГУЛАГа назывался «воля».
— То есть произошло дополнительное деление на официальную и неофициальную языковую картину мира, верно?
— Да. Языковые картины мира уже внутри одного языка обнаруживают различия. И это тоже может зависеть от условий жизни носителей соответствующих разновидностей языка. Но для носителей русского языка всегда сохраняется связь с большим пространством. Не случайно отсутствие свободы может называться притеснением, по-английски это oppression, т. е. нечто, ассоциируемое с «давлением сверху», а у нас ассоциации скорее с «теснотой».
Поэтому же, например, появляется выражение «просторная одежда». Она не связана напрямую с большими пространствами, но важно, что она не стесняет движений человека, который ее носит. А бывает тесная одежда, которая мешает человеку свободно двигаться. То есть язык как бы подсказывает нам, что именно существенно в понятии, в данном случае в понятии «свобода». Во всех иных случаях происходит примерно то же самое.
— А как в русской языковой картине представлены чувства?
— Вы знаете, психологи часто находятся под влиянием тех языков, которые они знают. Именно поэтому они выделяют какие-то базовые эмоции, чаще всего под влиянием английского языка, иногда немецкого.
Например, чувство страха. Существует важное чувство, когда человек думает, что может произойти нечто плохое, и он не может это предотвратить. В разных языковых картинах мира есть представление, что в такой ситуации человек часто или обычно испытывает страх. Это присутствует в английской и русской языковых картинах. А по-немецки главное слово для страха — это die Angst. В чем его отличие от английского fear или русского страх? В том, что человек тоже думает, что может произойти нечто плохое, но не знает, что именно.
А вот для русского «страха» такая отрефлектированность важна. Когда человеку страшно, он понимает, что может произойти. В то время как для Angst характерно, что человек не понимает, что именно может произойти. Вспомните, когда «апостолы закрыли дверь страха ради иудейска», в русском переводе используют слово опасение. Нам понятно, чего они боялись и что делали, чтобы этого избежать. Но немецкое Angst даже не позволяет что-то конкретное сделать. Это экзистенциальное чувство.
— Возможно, что здесь подошло бы слово «ужас»?
— Нет, ужас — это просто очень сильный страх. Возможно, он бывает еще сопряжен с отвращением. Angst, скорее, похоже на тревогу. Если продолжить разговор о специфически русских эмоциях, можно обратиться к слову тоска — состоянию, когда человек чего-то хочет, но не знает, чего именно, хотя при этом точно знает, что этого быть не может.
В английском языке такого слова нет. Есть депрессия. Но когда у человека депрессия, он идет к психотерапевту, ему понятно, что делать. А от тоски человек может совершить удалые поступки: например, запить или покончить с собой. И еще тоска часто испытывается, когда человек в одиночестве. Или в путешествии — так называемая дорожная тоска. Это очень специальное чувство, и слово тоска из-за этого является труднопереводимым.
— Кстати, откуда возникло различие между гордостью и гордыней? Вот, мы считаем, что гордость — это неплохо, а гордыня — уже не очень. Почему так?
— Гордыня — чуть более книжное слово. Тут был один и тот же процесс во всех европейских христианских культурах — происходила секуляризация отношения к гордости. В традиционном понимании гордость — это первый из смертных грехов. И слово гордость использовалось в отрицательном смысле, это видно по русским пословицам.
А дальше почти во всех языках гордость стала ассоциироваться с чувством собственного достоинства, что уже имело положительную окраску. Вместе с тем изменилось и противопоставление. Прежде гордость противопоставлялась смирению, а в современном языке, скорее, стыду.
Стыд — это чувство, которое испытывает человек, когда думает о чем-то плохом, что с ним связано, из-за чего другие люди могут подумать о нем плохо. А гордость — это чувство, когда человек думает, что люди будут думать о нем лучше. Ну или он сам сделал что-то хорошее. Например, гордость за свою работу, гордость за детей. Разные бывают поводы для гордости.
Отношение к гордости сильно поменялось в эпоху романтизма. В эту эпоху гордость стала употребляться для описания ситуаций, в которых человек не склоняется перед опасностью, не теряет чувства собственного достоинства, даже если ему что-то грозит. Знаете, такой неоромантический дискурс в духе Максима Горького: «Человек — это звучит гордо» или «Гордо реет буревестник». В советское время слово гордый в таком понимании стало штампом, причем положительно окрашенным.
Но должно было быть и какое-то обозначение чего-то чрезмерного, например, когда человек превозносится над другими. И для этого стало использоваться слово гордыня. Нечто подобное произошло в целом ряде языков.
Вообще, интересно, как языковая картина мира менялась и развивалась на протяжении относительно небольшого периода времени. Так, в XVIII веке в европейскую культуру проникла мысль, что у народа бывают свои характеры, даже появилось выражение «национальный характер».
Эта идея довольно быстро была заимствована русскими из Франции у Монтескье, из Германии у Гердера. И это совпало с возникновением русского литературного языка. Вот почему русским была свойственна повышенная рефлексия над значением слов — и в этом, кстати, особенность русской языковой картины мира: в ней многие явления очень ярко представлены.
— Раз вы заговорили о национальном характере, не могу не спросить следующее: если бы вам, как исследователю, предложили охарактеризовать русскую языковую картину мира в нескольких предложениях, в чем было бы ее фундаментальное отличие от иных языковых картин? Как бы вы описали ее своеобразие?
— Это действительно очень интересно. Дело в том, что национальный характер — это все-таки немножко мифология, характерная для XVIII века. Но при этом, конечно, есть некоторые идеи, которые свойственны именно русскому языку. Так, русским свойственно повышенное внимание к справедливости. Специфика русского языка в том, что справедливость — это не то же, что честность, законность.
Когда мы говорим о справедливости, мы как бы оцениваем какого-то человека, который раздает блага и наказания. В нашем представлении он может делать это справедливо или несправедливо, а мы оцениваем его и тоже можем делать оценку справедливо и несправедливо. Для многих слов важно, как слово функционирует в соотношении с антонимами. Мы можем сказать о том, что такое справедливость, когда поймем, что такое несправедливость.
Также русским свойственно внимание к нюансам человеческих отношений. Многие слова, даже заимствованные, попадая на русскую почву, начинали обозначать вещи, связанные с человеческими отношениями. Скажем, слово деликатный имело большой аспект значений. А по-русски деликатными стали называться такие люди, которые ведут себя так, чтобы не обидеть другого человека.
Важно, что у нас также присутствует некоторое неприятие успеха, ощущение, что это все суетное. Поэтому, например, слово преуспевающий тоже окрашено негативно. Преуспевающий адвокат — это не тот, кто спасает невинных людей от тюрьмы, а, скорее, тот, у кого много денег за выигранные процессы.
— Кстати, существует распространенный стереотип, что русские склонны к коллективизму, отсюда так много разговоров о той же соборности. А можем ли мы найти этому подтверждение в языке?
— На мой взгляд, стереотип о русской склонности к коллективизму не соответствует реальности. Русская культура скорее индивидуалистична и отталкивается от коллективизма. Это видно даже по тому, как русские ученые ведут себя на различных международных конференциях: когда всех уводят в какое-то одно место, русские стремятся отдалиться, действовать по-своему. Я бы сказал, что для русских очень важно слово свои. Вот «поближе к своим, подальше от чужих» — это действительно про русских. Вы видели заборы, которыми русские отделяют свои участки от других? Но это все же не лингвистика.
А вот что касается языка, то само слово «соборность» в каком-то смысле придумал Хомяков, образовав от слова соборный. А слово соборный в свое время было выбрано для перевода греческого слова katholikos. Почему соборный? Возможно, это связано с пространством, что надо всех собрать в одно место. Не случайно, когда люди собираются в дорогу, по-русски вещи обычно собирают, а не складывают или не пакуют, потому что главное — их принести из разных мест. Но все это имеет отношение не столько к коллективизму, сколько к русскому слову соборность.
Среди вещей, которые видны через язык, можно упомянуть отношение к неправде. Все знают, что неправду говорить плохо. Это не специфика русской культуры. Но в разных культурах позволительной считают неправду в разных ситуациях. Например, многие русские считают, что неправду говорить допустимо в общении с начальством.
И не случайно в русском языке различаются глаголы лгать и врать. Лгать — всегда заведомо плохо, а врать — иногда плохо. И это такое бытовое действие, которое иногда перестает осуждаться, например, когда о человеке говорят, что он «красиво врет». То есть вранье осуждается не столь однозначно.
К слову, у Достоевского есть эссе «Нечто о вранье», в котором описывается, когда человек начинает вдохновенно врать «из гостеприимства», чтобы интересно было, а какая-нибудь «правдивая тупица» вступается за правду. И Достоевский пишет, что это делает бессердечный человек.
Фотография: www.pravmir.ru.


