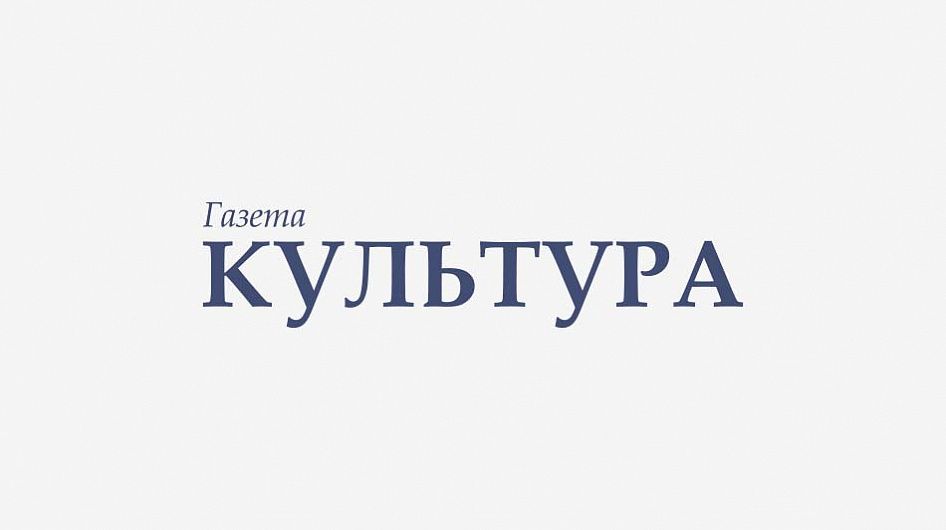
Юрий Назаров: «В 45-м никто не говорил «Победа», просто «война кончилась»
5 мая исполнилось 80 лет народному артисту России Юрию Назарову. На его счету более 250 картин, среди которых «Андрей Рублев», «Освобождение», «Зеркало», «Кавказский пленник», «Горячий снег», «Сталинград». Но останавливаться на достигнутом актер не планирует, по-прежнему востребован и много снимается. «Культура» расспросила Юрия Владимировича о военном детстве и работе с Тарковским, а также выяснила, почему юбиляр называет триумф «Маленькой Веры» злосчастным.
культура: Мы разговариваем накануне Дня Победы. Вы и сами из поколения детей войны, помните, как она началась?
Назаров: Конечно. Мне же было четыре года. 22 июня 1941-го могу рассказать буквально по минутам — только долго получится. Глубокий тыл, Новосибирск. Три тысячи верст до одного фронта, шесть тысяч до другого. Помню, каждый божий день передавали последние известия от советского информбюро: в результате тяжелых кровопролитных боев наши части оставили, оставили… И так весь июнь, июль, август, сентябрь, остановить наступление удалось лишь к зиме. И кто остановил? Правильно, сибиряки. А я кто? Сибиряк. Да, четыре года, сопли по колено, но грудь от гордости распирает. Потом, летом 42-го, немец опять попер, только поздней осенью дали ему отпор. В 43-м с ужасом ждал, что враги вновь двинутся вперед, но нет, не позволили. Это я теперь знаю про Курскую битву. А тогда просто счастье: не пропустили, а дальше чуть-чуть легче стало — перешли везде в наступление. Ну и, разумеется, май 45-го. Жрать по-прежнему нечего, но наше дело правое.
Я уже взрослым понял, что 22 июня мама, слушая Молотова, слышала смертный приговор, хоть и без определенный даты и конкретных имен, но для 27 миллионов он оказался приведен в исполнение. Люди жили, вкалывали, рожали детей, но ужас постоянно висел в воздухе. А 9 мая отпустило. Очень здорово сказала одна женщина, мы с ней одногодки: тогда никто не говорил «Победа», просто «война кончилась». Как в песне «и все-таки, все-таки мы победили». И спасли Европу, за что она не устает нас благодарить. Красавица цивилизованная то и дело предлагает нам покаяться. Рейган в свое время вообще обозвал «империей зла». За что? Мы в отличие от Америки ни разу ни на кого не нападали. И если мы «империя зла», то кто они? Раз уж мы, по их мнению, агрессоры и Бог знает кто еще, надо себя беречь и отстаивать. Как призывал Федор Тютчев: «Не изменяй себе, великая Россия! Не верь, не верь чужим, родимый край, их ложной мудрости иль наглым их обманам, и, как святой Кирилл, и ты не покидай Великого служения славянам».
культура: Вы родились и выросли в Новосибирске, как получилось, что поступать решили в Москве, еще и в театральный?
Назаров: В артисты рвался мой школьный приятель Витька Лихоносов, ныне знаменитый писатель, лауреат премии Шолохова. А я подался за компанию, на подхвате вроде. По радио как раз пели: «Здравствуй, наша Москва, здравствуй, лучшая в мире столица студентов». Вот мы сорвались и поехали. У Лихоносова даже про это роман есть — «Когда же мы встретимся?». Денег нам где-то нагребли.
культура: Мама была не против Вашего решения стать артистом?
Назаров: Так я и не говорил. Мама работала на ТЭЦ, водила меня на электростанцию. Делилась любимой работой. Все показала: распредустройства, генераторы, куда поступает пар, где гудят турбины.
культура: Наверное, видела Вас инженером?
Назаров: Может быть. Я ей сказал, что еду учиться на геолога. В Москве у нас тогда родственники жили, мамины троюродные сестры. Муж одной из них, дядя Саша, ходил в Геологоразведочный, искал меня среди поступающих. А мы с Лихоносовым влюблены были в театр. Сделали копии аттестата и отправились покорять сразу все четыре института. Витька что-то переволновался, в нем внезапно проснулась крестьянская скромность, и провалился, а меня взяли в Щукинское. Я был уверен, что никуда не примут, поэтому шел спокойно, видимо, это и помогло.
культура: Ваш друг не обиделся, что Вы поступили, а он нет?
Назаров: Это я обиделся за него, он ведь был звезда в нашем Кривощеково. А я так, сбоку-припеку. Поучился несколько месяцев, все бросил и уехал.
культура: Как же так, почему?
Назаров: Я шел в артисты не себя показать — ах, полюбуйтесь, какой красавец. Нет. Для меня актерство было сродни кафедре, откуда нужно нести людям что-то важное. Как завещал Некрасов: «Сейте разумное, доброе, вечное». Вот в чем видел задачу. Когда поступил, осознал, что дурак-дураком, 17 лет, ничего не видел, ничего не знаю. Нам говорили: «Раз хотите идти в артисты, то отправляйтесь жизнь изучать». Что мы и сделали. Если помните, Борис Щукин, в училище имени которого я попал, пришел на сцену чуть ли не с фронта, то ли с Гражданской, то ли с империалистической. Большая школа жизни за плечами у Алексея Горького. А кто гнал Льва Толстого на четвертый бастион?
Тут, кстати, партия приглашала на целину. Правда, меня мама не пустила. Услыхала, что там не только труд, но и много чего другого. Мой троюродный брат в это время закончил Новосибирский институт военных инженеров транспорта по специальности «мостостроитель». И мама сказала, какая тебе разница, в колхозе пахать или мост строить, а мне спокойнее, если ты не один будешь. Решил маму зря не расстраивать и поехал в Казахстан в бригаду кессонщиков. Потом где только не был: с Лихоносовым в сельхозинститут поступал, ездил в Одессу, хотел в моряки податься, оттуда рванул к Шолохову на Тихий Дон, к казакам, работал в кузне, затем в родном Новосибирске трудился на стройке. В общем, помотался по белу свету.
культура: А как в институте отнеслись к Вашему демаршу?
Назаров: Сперва душеспасительные беседы вел Юрий Васильевич Катин-Ярцев. Дивный, восхитительный артист, фронтовик. Разубеждал меня недели полторы. Никак. Потом сказал: «Иди к Захаве, отпрашивайся». Я пошел, объяснил свои соображения. Он говорит: «Молодец, сознательный ты человек, но и нас пойми, мы тебя взяли, мы за тебя отвечаем. Стипендию платили. Отчитайся, а потом делай, как хочешь». Наверное, полагал, что перебесится дурашка и останется. А я сдал зачеты и пришел с обходным.
культура: Почему все-таки решили вернуться?
Назаров: Затосковал. Артист — профессия эмоциональная, и, видимо, театральный меня зацепил, ведь педагоги были один другого лучше, что по мастерству, что по общеобразовательным предметам. Мне в тот момент, кстати, повестку из военкомата принесли. Выкинул ее и уехал в Москву. В Щукинском училище признался, что сбежал от армии. Мне сказали: «Надо, чтобы ты в законе был». Обратился в Министерство обороны, к юристу. Он мне объяснил, что ранний призыв — на уборку урожая. Все же в стране было заедино: урожай собирать помогали всем миром. Решил сдаться в армию, а потом вернуться в Щукинское, где меня обещали восстановить, если к тому времени у них такого типажа не найдется. Явился в военкомат: «Я дезертир, возьмите меня». Пока искал свое отделение, выяснилось, что опоздал. Нужно было ждать до августа, а я сдал экзамены и снова стал студентом.
культура: Как состоялся Ваш дебют в кино?
Назаров: Щукинцы занимались физкультурой на стадионе «Метрострой». К нам подошла женщина. Представилась: Люция Людвиковна Охрименко, ассистент режиссера Ивана Пырьева. Записала наши данные. Они над «Испытанием верности» работали. А кино — это мечта. Я танцевал в массовке. Попал на передний план. И что-то сделал не так. Иван Александрович кричит: «Я же просил на первый план поставить ансамбль. А что здесь этот чудак с другой буквы делает?» В общем, благословил на профессию. Фильм раз пятнадцать смотрел, но себя так и не нашел, зато всех родственников оповестил. Потом еще долго в массовке снимался. За хороший труд в «Рассказах о Ленине» получил два слова, и уже творчески решал эту задачу.
культура: Как в Вашей жизни возникли «Последние залпы»?
Назаров: Это уже было в 60-м, перед выпуском. Немногим ранее, на каникулах, я пошел в новосибирский театр «Красный факел», все про себя рассказал, спросил, не возьмут ли на работу. Они не знали, какой я артист, но все-таки марка: Москва, Щукинское. Прислали вызов, со всего курса я один подписался в родной город. И в это время мне дали почитать сценарий «Последних залпов». Раньше уже предлагали сценарии «Исправленному верить» и «Баллады о солдате». В первом в итоге снялся Володя Гусев, во втором Володя Ивашов. Так что я особенно и не надеялся. Когда спросили, кого бы хотел сыграть, ответил: «Да солдата какого-нибудь».
— А что так скромно?
— Ну, лейтенанта Алешина, — а сам думаю, куда ты лезешь, это же вторая роль, тебя бы хоть заряжающим взяли.
— А капитан Новиков не понравился?
Я даже не помню, что говорил, когда мне главную роль пообещали, была лишь одна мечта: пройти фото- и кинопробы. Ведь в училище меня не особо признавали. Когда утвердили, пришло время отправляться в Новосибирск по распределению. В театр я послал две телеграммы: одну — прошу принять меня на работу, а вторую — прошу отпустить на съемки. Так до Новосибирска и не доехал. Застрял в кино. Вообще «Залпы» определили мою судьбу. Там-то меня и увидел Андрей Тарковский. Чем-то я его зацепил, и он пригласил сниматься в «Ивановом детстве». Но в этой картине мне делать было нечего, там сыграл прекрасный Валентин Зубков, артист экстра-класса.
культура: Зато сложилось на «Андрее Рублеве».
Назаров: Да, дали почитать сценарий. Я понимал, что речь идет не о главной роли. Думал, предложат сыграть какого-то мужика пьяного. Самому же очень хотелось получить роль Бориски, но на нее уже назначили Колю Бурляева. Знаете, какая интересная штука: ведь Бориска и Андрей Рублев — два духовных автопортрета Тарковского, я в этом убежден. Он их лепил из себя. Андрей просто измывался над Бурляевым и Солоницыным во время съемок, но они были влюблены в него.
А мне достались князья. Почему, не знаю. Спорить же с Тарковским никому в голову не приходило.
культура: Говорят, с ним было очень тяжело на площадке?
Назаров: Непросто, но артисты радовались, как дети. Спросите у того же Бурляева. Он вспоминает работу с Тарковским как великое счастье. Мое же дело было маленькое — чтобы лошадь шла, куда надо и как надо. Коня звали Лир: 17 лет, здоровый серый красавец, но я намучился… Помните сцену, где мне нужно зарубить монаха? Снимали недели полторы, так как конь не желал делать, что ему говорят. Я его проводил двумя руками. Одной никак не выходило. А нужно еще и саблей орудовать, но как? Пошли пересуды: может, лошадь заменить? А я подумал: или лучше артиста? Можно же и так. Потом приехал наездник, который выступал с Лиром на соревнованиях, поставил какой-то шпрунт, чтобы он башку не задирал, и тогда, наконец, все получилось. Зарубил, выскочил из кадра. И вот уже еду: сам еле живой, Лир замученный, а тут идет Андрей Арсеньевич. Я в шутку поднял саблю, направил на него коня. Он, конечно, понял, что дурака валяю, но на всякий случай под какой-то сруб нырнул.
Вообще, Андрей ко мне очень хорошо относился, однажды за столом сказал: «Я не имею чести быть другом Юры». Стало быть, дружбу со мной за честь почитал. Но самое главное, он делом занимался. Снимали, к примеру, свиту великого князя, лошади ипподромные, кроме галевой дорожки, ничего не видели, а Тарковский их через болото гонит, хотя рядом тропочка есть. Материли его на чем свет стоит. А потом, когда увидели на экране, как наша кавалькада проходит, все поняли. Ни капли нашего пота, крови даром не пролито, все пошло в дело. Так что ничего кроме благодарности не испытываю. Плюс картина сначала в сотню лучших фильмов попала, затем в десятку, а нынче, говорят, занимает чуть ли не третье место. Моего участия в «Рублеве» полтора процента, но и за это спасибо, низкий поклон.
культура: Как в атеистическом государстве появился такой фильм?
Назаров: А может оно далеко не атеистическое, и вранье это все. У нас была культурная, просвещенная, высокодуховная страна. Да и нет в «Рублеве» никакого клерикализма. Только высокий дух и свобода.
Кстати, накануне съемок у Тарковского мы с Иваном Лапиковым сыграли вместе в «Непрошенной любви» по Шолохову. Поехали в какой-то клуб представлять картину, нас сопровождал журналист, хотел написать о Лапикове. Тогда как раз вышел «Один день Ивана Денисовича», и он заголовок придумал: «Два часа с Иваном Герасимовичем». И вот все про Лапикова рассказывают, я сижу помалкиваю. Тут корреспондент спрашивает: «А сейчас где он планирует сниматься?». Этого кроме меня никто не знал. Говорю: «У Тарковского утвержден».— «А что там за роль?» — «Кирилл, завистник, ну что-то вроде Сальери при Рублеве». Про Сальери, естественно, напечатали. Поскольку Тарковский был уже очень знаменит, журналисты его страшно донимали на площадке. Причем не только советские, но и иностранные репортеры — из «Лайфа», «Штерна». И все как назло спрашивали про Сальери. Тарковский просто уже на стенку лез: «Какой идиот вам это внушил? Это же так не по-русски». Сначала я удивился, а потом понял: действительно, Сальери — не в нашей традиции. В западной культуре, в протестантизме и католицизме сильнее индивидуалистическое начало, а у нас соборное, общинное. Когда Тарковского окончательно достали, он этот момент решил прояснить. Так в финале появился монолог Кирилла. Тот говорит Рублеву: «Никон третьего гонца к тебе прислал, чтобы ты шел расписывать Троицу. А ты всех отослал. Страшный грех искру Божию отвергать. Погляди на меня на бездарного. А ты грешник поболе моего. Ты что хочешь, в могилу талант свой забрать? Ступай в Троицу, пиши и пиши. Не Никону, Богу пиши». А Богу — значит людям, значит правде. Вот оно как.
культура: В Вашей книге «Только не о кино» Вы называете картину Василия Пичула «Маленькая Вера» злосчастным успехом. Почему?
Назаров: Это не я назвал, а редактор Лариса Ягункова. Там показано только, как все плохо, а как хорошо, как по-человечески — неизвестно. Конечно, заслуга фильма в том, что правду никто не прятал, от проблем не бежал, да только правда эта однобокая получилась и довольно хитрая, работающая на перестройку. Папа, мама вкалывают, дети придурки, а происходит все это на фоне «Азовстали». Вроде ненавязчиво, но зрителю показывают: вот эти трубы задавили маленького человека. Мол, зачем же они такие нужны? А они всего-навсего спасли нас в годы Великой Отечественной войны. Где бы мы были без таких труб? Гитлер подмял всю Европу и повел на нас. Как у Пушкина: «Не вся ль Европа тут была? А чья звезда ее вела! Но стали ж мы пятою твердой И грудью приняли напор Племен, послушных воле гордой, И равен был неравный спор». Это Пушкин про Наполеона. А разве с Гитлером было не так? Но мы все равно выстояли. Во многом благодаря вот таким вот «азовсталям». Этой правды в «Маленькой Вере» нет. Что Россия встала, себя и мир спасла. Понимаете, как писал Георгий Иванов: «Над облаками и веками Бессмертной музыки хвала — Россия русскими руками Себя спасла и мир спасла. Сияет солнце, вьется знамя, И те же вещие слова: «Ребята, не Москва ль за нами?» Нет, много больше, чем Москва!» Вроде враг советской власти, но русский человек.
культура: В «Маленькой Вере» Вы оказались первым актером, кто использовал на экране ненормативную лексику.
Назаров: Да, ну и что. Во-первых, наш мат самый лучший, в какой-то степени он часть нашей культуры. Я вам сейчас одну историю расскажу. У меня дед прошел японскую войну, империалистическую, Гражданскую. К 1941-му ему 61 год стукнул. Во время Великой Отечественной работал в районном земельном отделе, он же геодезистом был. Парабель, Черепаново под Новосибирском. Парабель — это трое суток на пароходе плыть. И он ездил по колхозам, а там одни бабы, всех мужиков война забрала. И дед спрашивает: «Ну что, бабы, тяжело одним?» А ему в ответ: «Сперва тяжело было, а когда материться научились, легче пошло». На Западе мат — осмысленнее и оттого гнуснее, а у нас — с присвистом через семь гробов в центр мирового равноденствия. Он, конечно, задевает слушающих, зато позволяет выпустить пар. А что касается фильма, то в сценарии этих слов не было. «Где этот жених?», и все. Ну, я и объясняю режиссеру: «Нормальный отец сказал бы, какой жених». А Вася Пичул: «Говори» — «Все равно же вырежут».— «Ты говори, остальное мои проблемы, я разберусь». Вот это и вошло в картину, потому что выражает отношение.
культура: Вы и сегодня по-прежнему востребованы. По какому критерию отбираете роли?
Назаров: Чтобы не врать. Станиславский не зря отмечал могучую силу воздействия искусства. Он, конечно, имел в виду театр, сейчас это касается кино. Так вот эта сила, в самом деле, огромна, но бывает со знаком плюс, а бывает наоборот. В Советском Союзе со знаком минус тоже были картины, но теперь их чертова бездна. Стараюсь в подобном не участвовать, без меня обойдутся.
Фото на анонсе: Роман Асечкин/ТАСС


