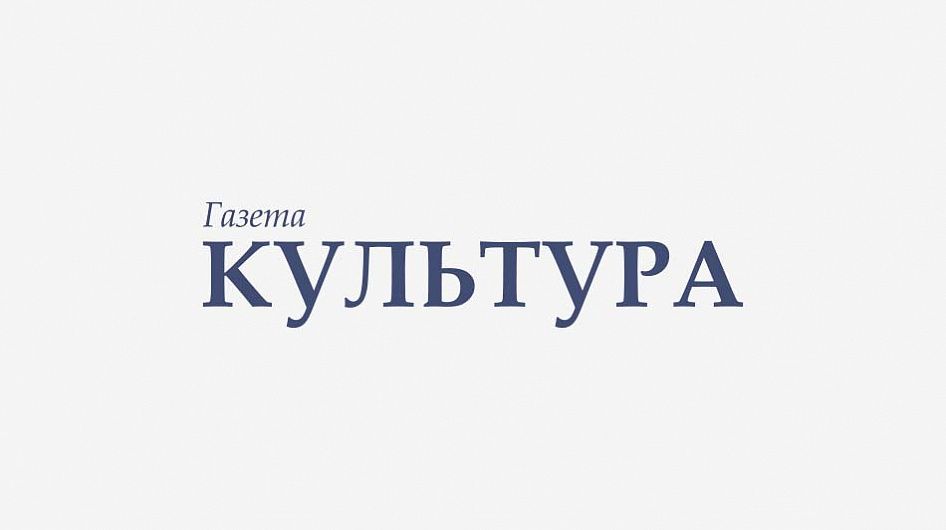
Ах, песенку эту доныне хранит...
Полвека назад ушел из жизни Михаил Светлов, поэт, драматург, лауреат Ленинской премии. Автор пронзительной «Гренады» и по-комсомольски задорной «Каховки» отличником официальной словесности себя не считал. Шутили, что он отсиживался на литературной камчатке и оттуда подавал свои остроумные репризы...
Его все любили. «Он был предметом общей непрестанной любви. Если был — значит заслужил», — записал в дневнике Павел Антокольский. Разборчивая, если не сказать дистантная Анна Ахматова, познакомившись со «скромным сыном Бердичева» в столице, тут же растаяла: «Знаете, Светлов, когда у нас в Питере говорили, как вас любят, я удивлялась: как могут такие разные люди любить одного человека? А теперь поняла: вас не любить нельзя!»
Он отвечал миру взаимностью. «Дружба — понятие круглосуточное». «У меня деньги только гости, не хозяева», — заявлял, отправляясь на очередную попойку с многочисленными друзьями-товарищами. На попытки себя урезонить, отвечал: «Когда у меня останется последняя десятка, пойду к нотариусу и сниму с нее копию».
Светлов помогал людям празднично, как добрый волшебник, вспоминала Маргарита Алигер. «Мог вдруг запросто, весело и естественно пригласить усталую от забот немолодую женщину, скромную сотрудницу издательства, кое-как сводящую концы с концами, пообедать или сходить в кино. И ненароком затащить в обувной магазин и, словно играя, заставить купить новые туфли...»
О его остроумии ходили легенды. Многие светловские афоризмы стали крылатыми. «От него удивительно пахло президиумом» или «Порядочный человек — тот, кто делает гадости без удовольствия». Однажды, приехав в издательство за гонораром и не обнаружив своей фамилии в ведомости, вместо того, чтобы разозлиться, поэт вдруг изрек: «Давно не видел денег. Пришел посмотреть, как они выглядят». В другой раз, когда какой-то популярный драматург пришел в массивных золотых часах с толстым браслетом, предложил: «Старик, а не пропить ли нам секундную стрелку?»
Смешное Михаил Аркадьевич находил повсюду. На больничной койке, в лишениях (годы борьбы с космополитизмом человек с настоящей фамилией Шейнкман провел под подозрением), на войне. В одном из писем с фронта (Светлов был корреспондентом «Красной звезды») рассказывал: «Забавный случай. Недалеко от передовых я читал бойцам стихи. В это время на нас пикировали три бомбардировщика. Все легли. Я продолжал читать стихи. Самолеты сбросили бомбы, не долетев до нас. Ты сама понимаешь, что аудитория не очень внимательно слушала меня. А я понял, что в моих стихах есть длинноты».
Острил Светлов и незадолго до смерти. «Старуха, привези мне пива!» — вдруг попросил он свою ученицу, литературоведа, прозаика Лидию Либединскую. «Пива?!» — «Да. Рак у меня, кажется, уже есть».
О своих хитах говорил без патетики, хотя очень серьезно относился к профессии, к поэтическому призванию. «Есть стихи-офицеры, стихи-генералы. Порой попадается стихотворение-маршал. У меня такой маршал — «Гренада». Правда, уже довольно дряхлый. Ему пора на пенсию. Но он пока не уходит. Есть два генерала. «Каховка» — тоже в солидном возрасте. И — средних лет — «Итальянец». А сколько рядовых, необученных!»
Отсутствие напряженного действия, песенность, лиричность. Смешение романтического и будничного, поэтического и прозаического, героического и непритязательно-бытового — так характеризовали творческий метод Светлова исследователи. Отмечали и гейневскую линию в его поэзии — в игре контрастов, мгновенной смене профанического и возвышенного, многозначности, ироничности, интересе к бытовой подробности, детали.
«Я прожил шестьдесят лет. Это очень много, — рассуждал он в рентгенологическом институте, когда смертельный диагноз «эскулапушки» уже подтвердили. — Что же я завоевал за эти годы? <...> Право не иметь права писать плохо». И далее, в свойственной ему манере: «Что мне запрещено в моем деле, в моей профессии? Разрешено все, за исключением одного совершенно точного правила: нельзя переходить грань искусства. <...> Иначе получится, как у Гоголя в его гениальном рассказе «Портрет». Портрет вылез из рамы, и никакая милиция с ним не справится». Его поэтической и жизненной декларацией считают стихотворение «Спичка»: «Я желаю и присно и ныне / Быть родителем огоньков. / Я желаю подобно осине / В сотни втиснуться коробков. / Чтоб носили меня, зажигали, / Чтобы я с человечеством был, / Чтоб солдат на коротком привале / От меня, от меня прикурил!»
Критики и по сей день восхищаются краткой, простой и вместе с тем драматически-пронзительной строфой. А он, сутулый, в своем неизменном демисезонном пальто стоит в лифте одного из московских издательств. Держит под мышкой объемный сверток, из которого беспомощно торчат скрюченные куриные лапы в бумажных браслетиках. «Это мой друг, курица», — ловит недоумевающие взгляды знакомых. Он несет гостинец какой-то Вере Ивановне, позабытой всеми, давно ушедшей на пенсию секретарше...


