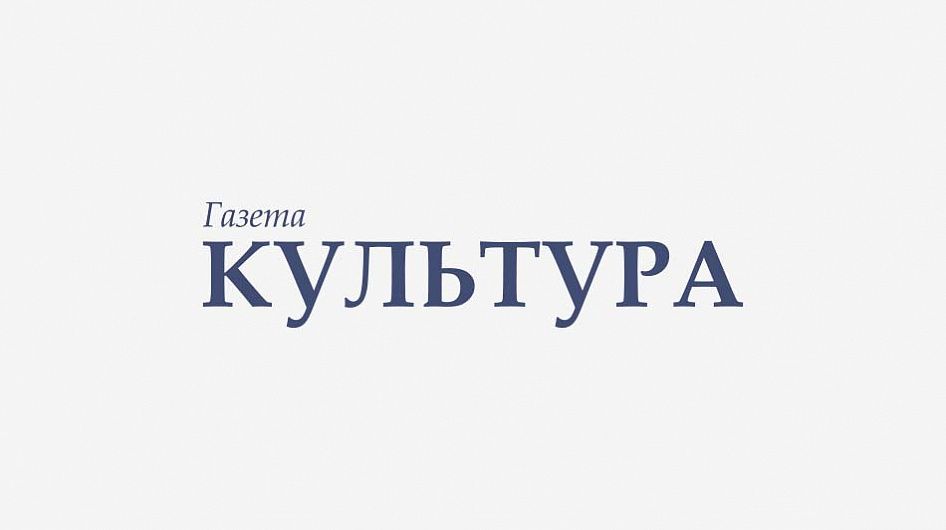
Писатель Андрей Бычков: «Подлинное произведение искусства должно появляться в каком-то смысле помимо воли своего создателя»
Андрей Бычков — писатель, эссеист. В этом году в издательстве «Алетейя» вышла его книга «Все ярче и ярче», которая представляет серию новейших рассказов автора.
— Андрей Станиславович, что является искусством и что им не является?
— Вопрос довольно непростой. Еще в Древней Греции, в античные времена люди были зачарованы появлением растений весной или иными превращениями мира, то есть природными процессами, но также и созданием вещей, и пытались понять, что же именовать искусством. В Божественной природе все происходит как бы само по себе в отличие от мира человеческих усилий, где все обусловлено той или иной пользой от результата. Но «явление» как-то связано с «освобождением», и его стоит отличать от «сделанности», в основе которой лежит воля. Подлинное произведение искусства по идее тоже должно появляться как бы само, в каком-то смысле помимо воли своего создателя, чтобы он лишь подивился тому, что у него получается. Это, конечно, старый, классический взгляд на проблему. Сейчас, в эпоху инсталляций и симуляций, и особенно после периода реди-мейд, искусством давно уже называют все что угодно. И, казалось бы, поворота назад уже нет. Но я бы все равно оставил критерием произведения искусства сам факт его уникальности, которое свидетельствует, что оно принадлежит само себе, оно уникально и этим отличается от поделок, копий и побрякушек, которыми занимаются ремесленники.
— То есть, я правильно вас понял, только то искусство, что оригинально?
— Да, очень хорошо, что вы уточнили. Оригинальность (origin в переводе — начало). Близость к началу, к истоку, к моменту явления — это и есть верный критерий. Это вещь довольно архетипическая. Произведение является уникальным и оригинальным именно потому, что оно постоянно как бы возвращается к своему истоку, к какой-то первичной интонации или как бы к первичной ноте, заданной неведомым камертоном.
— Почему вы решили заняться в начале пути писательством, а не пошли по стопам отца-художника?
— Для меня в этом тоже скрыта некая двусмысленность. Казалось бы, у меня отец-художник, и я мог бы творить, так сказать, под его присмотром, тем более что я довольно неплохо рисовал в детстве. Но я предпочел заняться наукой. Занимался ею профессионально и о художестве не помышлял. В довольно зрелом возрасте, лет сорок мне было, я как-то набросал карандашом портрет матери, и отец был удивлен, насколько «верно все сошлось», как он сказал. Науку я в конце концов оставил и стал писать прозу. Был, наверное, скрытый момент, возможно, эдиповый, почему я не стал заниматься живописью. Я искал какое-то радикальное, как мне казалось, отличие, чтобы выйти из-под тени отца. Но еще в детстве, часто, когда отец писал картины, я давал им названия (они, кстати, всегда ему нравились), а для меня эти имена втайне были как какой-то последний фокус, в котором его картины как бы обретали свою четкость и завершение.
— Но мы знаем примеры отца и сына Тарковских: отец занимался поэзией, сын ушел в кинематографическое искусство. Не хочется большим художникам повторяться и идти по проторенным дорогам…
— Это верное замечание. Но все же в прозе своей я все равно как бы рисую картины. Это отличается от обычного нарратива рассказчика. Я скорее не рассказчик, а художник. Мне близка и музыкальная стихия. Помню, отец меня частенько брал на концерты классической музыки в детстве. И благодаря ему же я пару лет занимался русской семиструнной гитарой, играл на его инструменте и ходил к учительнице, которая была, как я узнал позже, и его любовницей. Но, возвращаясь к теме, изобразительная реальность мне, да, ближе. Я преследую не слова, а картины.
— Ваш отец — Станислав Бычков, художник, ученик Элия Белютина, до сих пор является вашим соавтором: обложки ваших книг иллюстрируют его картины. А как отец смотрел на ваши занятия литературой?
— Поначалу скептически. Может быть, он думал, что писатели — это те, кто много говорит (мне так казалось, что он так думал), а я был довольно молчаливым парнем. Он не советовал мне заниматься искусством еще и по той причине, что люди искусства много пьют (сам он тоже пил чрезвычайно много). Но когда стали выходить мои первые рассказы, и особенно когда вышла моя первая книжка, он безоговорочно меня признал. И это очень много мне дало в плане, так сказать, воцерковления в ипостась. С годами я все более понимаю, что стал художником именно благодаря ему. У нас были, не скрою, непростые отношения. Особенно в моей юности, когда я еще учился в университете, а он уже сильно пил, при этом мы жили с ним в одной комнате. И когда он мешал мне спать, я, бывало, даже кидался в него ластиками. Но потом, после его развода с матерью и моего развода с первой женой наши отношения улучшились. В его «трезвые годы» мы играли с ним в большой теннис. Он был действительно очень талантливым художником и мог многого достичь, если бы не эта проклятая водка. Я люблю его картины, а его картины в каком-то смысле любят меня. У нас с ними очень доверительные отношения. Понятно, что для меня это больше, чем картины, скорее иконы... Поэтому они и со мной вместе, на обложках моих книг. Это какой-то двойной знак избранничества. Помню, все мои друзья по жизни, да и многие знакомые всегда удивлялись, как это так, что у меня отец художник. И когда они удивлялись, то я и сам как-то заново удивлялся вместе с ними и чувствовал свою какую-то тайную особенность.
— Кто вам сегодня интересен из людей пишущих?
— Я не литературный критик, чтобы пристально следить за литературным процессом. Но мне всегда была интересна проза Юрия Мамлеева, уже ушедшего от нас; Владимира Сорокина и Саши Соколова. У Мамлеева грандиозные «Шатуны», ранние рассказы, «Человек с лошадиным бегом» один только чего стоит. У Сорокина тоже рассказы феерические, завораживающие, взять хотя бы «Месяц в Дахау». У Саши Соколова «Школа для дураков» моя любимая — воздушная, самоговорящая какая-то вещь. Я считаю, что это три действительно выдающихся современных художника.
— А кто из философов вас вдохновляет сегодня? Вы же сами философ…
— Я бы не стал себя называть философом, может быть, я мог бы себя назвать таким слегка философическим автором. Вдохновляют, увы, по-прежнему другие — Фуко, Хайдеггер, Делез, Бодрийяр, огромное впечатление произвел Агамбен. И не скрою, что я старый ницшеанец. Все же стоит назвать и отечественных философов, интересных сегодня, это Сергей Хоружий, Олег Аронсон, Владимир Малявин, Федор Гиренок. Все они крупные мыслители, каждый по-своему. Хоружий вернул в русскую философию предельный опыт, но пошел в этом, мне кажется, не только от своих исихастских предпочтений, но и от штудий Джойса с его люциферианскими инверсиями. Владимир Малявин открывает неожиданную связь древних китайских религий, даосизма в частности, с постмодернистскими и виртуальными мирами. Олег Аронсон исследует стихии в их действенной борьбе против субъекта, а Федор Гиренок интересен сингулярностями. Я бы отметил также и работы Алексея Нилогова по антиязыку.
— Что нас сегодня формирует? Политика? Социум? Интернет?
— Проблема нашего времени в том, что мы существуем в разрыве с традицией, и мы должны признать этот разрыв. Мы подвешены в пустоте, в антропологической неопределенности ситуации. Мы пробуем обратить наш взор назад, пытаемся восстановить связь с традицией, но, увы, получаются лишь некие симулякры этих отношений. Какое-то искусственное конструирование, а не живая связь с традицией. Таково положение дел не только в нашей стране, это происходит во всем мире. На Западе этот процесс начался еще со времен промышленной революции. Очень трудно вытерпеть эту оставленность, но мы все-таки пытаемся отрефлексировать этот момент. Часто с помощью шоковых инструментов. Но только на первый взгляд так кажется, что это некий имморализм и нигилизм, который характерен для современных философов и художников, что они будто бы отвращают нас от традиции. На самом деле в шоковой терапии много ностальгии. Современность все больше рассеивается по виртуальным мирам. Все больше и больше нарастает неопределенность: мы не можем отличить истинное от неистинного, правду от лжи, в нашу информационную эпоху мы уже не доверяем информации (а ничего другого у нас почти и не осталось). Это делает ситуацию все более неопределенной, нарастает чувство тревоги, что это вообще за существо такое — человек? Искусственная реальность берет над нами верх, мы подчиняемся всей этой ирреальности электронных сигналов и посланий, больше даже, чем чувственному опыту. Все это не может не вызывать опасения за судьбу того, кого все еще хочется назвать живым человеком.
— Что делать талантливому человеку в условиях, когда усилия тщетны? Когда мир заполонила попса: попса от музыки, от литературы, от кино…
— Продолжать работать по-прежнему, не завораживаясь всей этой «пеной дней». Действительно, вся современная реальность, и в частности реальность литературного мира, стала очень функциональной, тотально экономической, предельно рационализированной по принципу выгоды, материальной или символической. Подвижничества и бескорыстных суждений публичных почти не осталось. Актеры заняты социальной игрой. Многие пишут и проповедуют одно, а делают другое, тотальный постмодернизм. Впрочем, все это не только сегодня началось, сегодня мы просто присутствуем при апогее. А началось-то давно уже как. Гегель еще об этом писал в «Феноменологии духа» — об этой фундаментальной извращенности человека культуры. Он прочитал Дидро — «Племянника Рамо» и был поражен этим моментом, что можно иметь тончайший изысканнейший вкус и при этом быть полнейшим мерзавцем и негодяем. А таковых у нас и в современной литературе немало, и все эти хищники и дельцы ведут жестокую борьбу за место под солнцем. Только вот что это за солнце? Но те, кто как-то преодолевает в себе этот момент, кто понимает, что подлинное художественное движение внутреннее, в отличие от движения внешнего, критического, рефлексирующего, пусть и верного, но вторичного и не способного на открытие себя, те исходят не из разрыва, а из отказа. Потому что подлинное движение невозможно без какого-то безумного сбережения себя против всех этих «железных правил». Надо стараться сравнивать свое дело с делом действительно больших мастеров и стремиться достичь того же. Старое правило: я сделал все что мог, а там будь что будет…
— А что с будущим? Оно предопределено?
— Будущее абсолютно непредсказуемо, может внушать как опасение, так и надежды.
— В современной литературе сейчас очень много дутых величин…
— Речь идет о спасении. Литература — это не премиальный бизнес, а возможность спасения или как минимум практика себя. В идеале такая монашеская, схимническая практика. Прав был Джойс, когда говорил о некой религии текста. В начале было Слово, в начале было Писание. Этого и надо держаться.
— Вы преподаете курс «Антропологическое письмо». В чем его особенная ценность сегодня, на ваш взгляд?
— Я учу своих студентов, чтобы они больше доверяли себе и меньше верили каким-то расхожим форматам, меньше ориентировались на тренды, на то, что им предлагают те или иные менеджеры от литературы. Литература дает шанс обратиться к себе, открыть себя, вслушаться в себя. Надо обнаружить те тонкие условия, когда слова появляются сами, в том порядке, которого именно они захотят. У нас, увы, наследие уже не от Древней Греции, а от Рима, западное, европейское с его волевым началом, где все сводится к некоему желанию, страсти и к воле, которая способна привести к какому-нибудь результату. Мы с этого начинали разговор. Но когда заходит речь о художестве, то волевой момент, как ни странно, не самый важный. Заставить себя сесть за работу, это да. Но потом надо заниматься не-деланием. Надо ждать, когда неслышное и легкое захочет назваться само. Вот такой тонкости обращения с собой и со своим словом я и пытаюсь научить.
— А где вы преподаете?
— Я преподаю на литературных курсах при «Интернациональном союзе писателей». Давно думаю о своей независимой литературной мастерской, постепенно созреваю, но пока еще до самостоятельного ведения дел не дозрел.
— Давайте в завершение скажем несколько слов о книге «Все ярче и ярче».
— Я надеюсь, что сборник этих моих рассказов кое-что высветит. Я благодарен главному редактору издательства «Алетейя» Игорю Савкину, что он решился на это издание, несмотря на то, что это рассказы в каком-то смысле не для всех. Но я этим риском доволен. Спасибо всем, кто мне помогал. Надеюсь, книга найдет своих читателей. В добрый путь!
Фотография: www.rewizor.ru.


