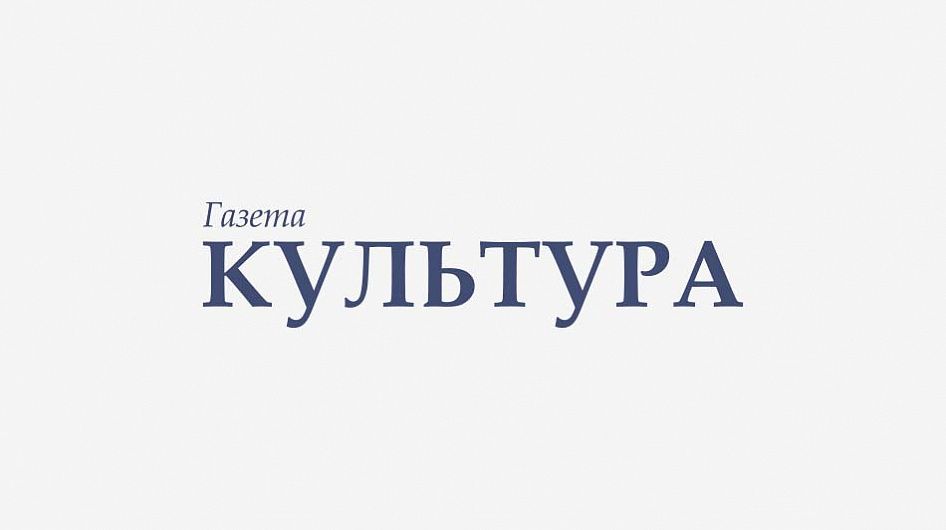
Человек, который Ленина рассмешил: Аркадий Аверченко «на троне» и в изгнании
Современники называли Аркадия Аверченко «королем смеха». И если бы смех на самом деле продлевал жизнь, как любят повторять заправские шутники, то Аркадий Тимофеевич вряд ли отстал бы на полпути от другой «коронованной» особы («королевы смеха») Надежды Тэффи: она-то сумела перешагнуть свое 80-летие, а ему долгий век отпущен не был. Прожил он всего 45, лишь на полгода больше, чем начинавший в юмористическом ключе великий русский писатель Чехов.
На Чехова Аверченко волей-неволей оглядывался, ведь в российских столицах оба были провинциалами: первый родом из Таганрога, второй — из Севастополя. Свой рассказ «Уменье жить» крымчанин опубликовал в харьковском журнале «Одуванчик» еще в 1902-м.
Позже, сообщая автобиографические сведения для Словаря русских писателей и ученых, свой литературный дебют он перенес на весну 1904-го, когда в «Журнале для всех» появился его рассказ «Праведник». Как раз в этом году Антон Павлович умер, и не исключено, что Аверченко был не прочь представить себя не просто его литературным наследником, но и в каком-то смысле реинкарнацией. Не потому ли, перебравшись в 1907-м в Петербург, первым делом устроился в журнал «Стрекоза», где за 27 лет до него Чехов впервые напечатался и получил по 5 копеек за строку? (Тем дебютом стало «Письмо к ученому соседу», откуда выпорхнула крылатая фраза: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».)
Аверченко продолжил дело не того солидного мэтра, которого Лев Толстой впроброс назвал Пушкиным в прозе, автора таких шедевров, как «Степь», «Дуэль», «Палата №6», «Черный монах», «Дом с мезонином», а резвого пересмешника, на коего Лев Николаевич мог и внимания не обратить, — поденщика из «Стрекозы» и других столь же легковесных журнальчиков, где даже над собственной фамилией посмеяться не грех, назвавшись на потеху читающей публике Антошей Чехонте, лишь бы поддержать марку веселого, неунывающего малого. От изнурительной журнально-газетной круговерти, превращающей писателя в выжатый лимон, великого драматурга и новеллиста заботливо предостерег в свое время критик Александр Скабичевский, посуливший ему (как рассказывал Чехов Горькому) смерть «в пьяном виде под забором». По словам Антона Павловича, это предупреждение произвело впечатление — единственный раз за все двадцать пять лет, когда он читал критику на свои рассказы.
Но, в отличие от него, довольно серьезного в общем и целом прозаика, для которого работа над юморесками была мучительной обязаловкой, Аверченко сочинял их без напряжения, легко и только в тех случаях, когда ему самому было весело. И, как бы ни был этот журнальный галерник поглощен неистребимой текучкой, он умел наслаждаться всеми возможными житейскими благами. «Аверченко любил свою работу, — замечала Тэффи, — и любил петербургскую угарную жизнь, ресторан «Вена», веселые компании, интересных актрис».
«Тот, кто взамен «Вены» захочет открыть себе «Артерию», — будет глуп и безграмотен», — написал в похвалу любимому ресторану юморист. Туда, на угол Малой Морской и Гороховой, он постоянно хаживал с друзьями и подругами, там же назначал деловые встречи, а в конце января шумно праздновал собственные именины. И тогда под занавес выкатывали от заведения огромный торт с шоколадной надписью «Аркадию Сатириконскому».
«Сатирикон» (1908–1914) вместе с пришедшим ему на смену «Новым Сатириконом» (1913–1918) были самыми популярными насмешливо-язвительными журналами старой России. А главным человеком в них — душой, неистощимым выдумщиком и заводилой, ведущим автором и безусловным авторитетом — являлся Аркадий Аверченко.
Один из авторов «Нового Сатирикона» Владимир Маяковский, описывая ночной пейзаж, сумел зарифмовать фамилию своего работодателя:
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Да, закрутить строку так, чтобы она сверкала, Аверченко был мастак, в чем легко убедиться даже по его ответам на присланные в редакцию письма:
***
«Скоро ли вы меня тиснете?»
—Ах! Сударыня, оставьте это.
***
«Получена ли моя рукопись? Не затерялась ли?»
— Если бы затерялась!.. А то получена!!!
Когда журналист Николай Иорданский печатно упрекнул его за то, что он появился на церемонии прощания с умершим издателем Алексеем Сувориным (с ним Аверченко конфликтовал), редактор «Сатирикона» на страницах журнала ответил: «На похоронах был, не отрекаюсь. Для вашего утешения могу сказать, что на ваших похоронах буду с еще большим удовольствием».
Его коллегам в ту пору приходилось нелегко, иные ради спасения своих детищ пускались во все тяжкие. Так, шеф «Синего журнала» (в будущем известный советский журналист) Василий Регинин однажды дал в газеты объявление о том, что на представлении в цирке Чинизелли войдет в клетку с тиграми и там выпьет свой кофе, предпочтет, так сказать, быть скорее растерзанным, нежели разоренным. Хищников загодя должны были плотно накормить, служители с брандспойтами стояли у клетки наготове, но кто мог поручиться, что у тигров не взыграет охотничий инстинкт? В звенящей тишине битком набитого цирка Регинин действительно вышел на манеж, с нарочитым спокойствием подошел к клетке, осторожно открыл дверь, вошел внутрь, где в углу на столике уже стояла чашечка любимого напитка, сел на стул и не спеша выпил. Затем медленно поднялся и, не поворачиваясь к зверям спиной, тихонько вышел. Тигры лениво проводили его глазами. Но как только захлопнулась дверь, бросились на прутья клетки, яростно ее сотрясая. Следом в «Синем журнале» опубликовали фотографии, сделанные во время этого аттракциона. Тираж издания на время взлетел.
«Сатирикону» столь экстремальная реклама не требовалась. На его авторитет работали замечательные карикатуристы Алексей Радаков и Ре-Ми (Николай Ремизов), не отказывались посотрудничать и такие мастера, как Иван Билибин, Борис Григорьев, Мстислав Добужинский, Сергей Судейкин, Александр Яковлев... Из прозаиков блистали сам Аверченко и династическая ровня ему Тэффи, в спину им дышали Аркадий Бухов и Осип Дымов. Оттачивал афоризмы Дон-Аминадо, подметивший однажды, что «про каждого человека можно написать роман, но не каждый человек заслуживает некролога». С энтузиазмом поддерживал сатириконцев маститый Александр Куприн. Украшали журнал стихи Саши Черного, Петра Потемкина, Николая Агнивцева. Аверченко не побоялся позвать к себе в команду даже вышеупомянутого скандального футуриста Маяковского, правда, притворно справлялся у коллег: «А не развратит ли он нашу редакцию?» — «Если наша редакция такая бездарная, — отвечали ему в тон, — то и пусть развращает».
Когда Аркадий Аверченко появился в столице, его ужаснуло, что газетно-журнальная юмористика скатилась до набившего оскомину вышучивания безответных персонажей вроде «дачного мужа», «злой тещи» или «купца, подвыпившего на маскараде». Писатель задался целью разворошить на страницах наиболее востребованной низовой печати весь многолюдный петербургский муравейник. В бесчисленных рассказах он вовлекал в забавную, а затем все более абсурдную игру всех, кто попадался под руку: учителей, студентов, чиновников, торговцев, политиков, городовых, артистов... Себя же, меняя маски, как перчатки, представлял то чудаком, то плутом, то недотепой, то балагуром, то простаком. В рассказе «Поэт» он —жертва собственной профессии, бедолага-редактор, которого настырный графоман без конца терроризирует своим отвергнутым стихотворением, читает и перечитывает ему в редакции свое произведение, засовывает оное в его книгу, навязывает через извозчика, кухарку, швейцара, уличного мальчишку, сына, возвращающегося с нянькой из кинематографа, и остававшуюся дома жену. Вечером редактор находит эти стихи в ящике с сигарами, затем — внутри холодной курицы (ее подают на ужин), следом — под одеялом и отдельно под подушкой, а утром, после бессонной ночи, — еще и в каждом ботинке. Гоголевскому Ивану Федоровичу Шпоньке, которого надумала женить властная тетушка, во сне повсюду мерещится жена, она у него и в шляпе, и в ухе, и в кармане, но этому герою достаточно проснуться, чтобы избавиться от кошмара, а доведенный до крайности рассказчик вынужден просить издателя, чтобы тот освободил его от редакционных обязанностей, и данное прошение приходится переписывать, поскольку на обороте непонятно как оказался все тот же злосчастный стишок.
Добиваясь плотности письма, Аверченко часто сжимал миниатюру, как пружину, до беспримесных диалогов, и она, миниатюра, просится уже не только в печать, но и на подмостки. «Между корью и сценой существует огромное сходство, — говорил Аркадий Тимофеевич, — тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть». Но для него самого эта болезнь стала хронической, ведь он был заядлым театралом и в «Сатириконе», кроме всего прочего, выступал как постоянный театральный рецензент или, если сослаться на подпись под его рецензиями, Старая театральная крыса. В петербургских театрах миниатюр на Литейном и Троицкой шли его одноактные пьесы. Скетчи по рассказам Аверченко исполняли в Москве (в Никольском театре миниатюр и кабаре «Летучая мышь»), показывали в провинции.
Полжурнала (издание выходило еженедельно на шестнадцати страницах) он мог заполнить в одиночку. С 1910-го по 1917-й включительно вышли три с половиной десятка его книжек — от трех до восьми ежегодно (не считая переизданий). А самая первая — «Веселые устрицы» — перепечатывалась семь раз.
Если русские классики второй половины XIX века вышли из гоголевской «Шинели», то Аркадий Аверченко — из предшествовавших ей «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где бьет ключом «настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности» (Пушкин). Именно такой, вернувший свободный смех в литературу (где прежде признавали лишь смех сквозь слезы, пронизанный «гражданской скорбью и тоской о несовершенстве человечества») собрат был по сердцу Тэффи. Но способность озирать «всю громадно-несущуюся жизнь» «сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» — это как раз то, к чему пришел сам Гоголь после «Вечеров». В «Мертвых душах» он горько жаловался на злую писательскую судьбу, но всецело ей подчинился, хотя на грозный, сатанинский смех Щедрина способен не был ни по своему характеру, ни по своей душевной организации, ни по природе своего дара.
Аркадий Аверченко не смог избежать ожесточения. Ведь ему пришлось пережить в российской столице и мировую войну, и Октябрьский переворот, и начало красного террора. А эмиграция прогнала его «кувырком по Европе»: Константинополь, Белград, София, Прага.
В 1921 году в Париже вышел сборник рассказов «Дюжина ножей в спину революции». Там голодная петроградская компания по вечерам смакует одни лишь воспоминания о еде, восьмилетняя девочка прекрасно отличает стрекот пулемета от стрельбы пачками и трехдюймовку со шрапнелью не путает. «Откуда ты это знаешь?» — удивляется взрослый рассказчик. «Поживи с мое, — отвечает она, — не то еще узнаешь». Обыватели, забывшие, что такое книги, ходят за город полюбоваться на виселицы: одна на букву «Г» похожа, другая — на «П». Почитают, складывая эти буквы, люди и идут по домам. «Все-таки чтение — пища для ума»...
Книжка понравилась Ленину, и это, пожалуй, самое смешное.
Позже, сообщая автобиографические сведения для Словаря русских писателей и ученых, свой литературный дебют он перенес на весну 1904-го, когда в «Журнале для всех» появился его рассказ «Праведник». Как раз в этом году Антон Павлович умер, и не исключено, что Аверченко был не прочь представить себя не просто его литературным наследником, но и в каком-то смысле реинкарнацией. Не потому ли, перебравшись в 1907-м в Петербург, первым делом устроился в журнал «Стрекоза», где за 27 лет до него Чехов впервые напечатался и получил по 5 копеек за строку? (Тем дебютом стало «Письмо к ученому соседу», откуда выпорхнула крылатая фраза: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».)
Аверченко продолжил дело не того солидного мэтра, которого Лев Толстой впроброс назвал Пушкиным в прозе, автора таких шедевров, как «Степь», «Дуэль», «Палата №6», «Черный монах», «Дом с мезонином», а резвого пересмешника, на коего Лев Николаевич мог и внимания не обратить, — поденщика из «Стрекозы» и других столь же легковесных журнальчиков, где даже над собственной фамилией посмеяться не грех, назвавшись на потеху читающей публике Антошей Чехонте, лишь бы поддержать марку веселого, неунывающего малого. От изнурительной журнально-газетной круговерти, превращающей писателя в выжатый лимон, великого драматурга и новеллиста заботливо предостерег в свое время критик Александр Скабичевский, посуливший ему (как рассказывал Чехов Горькому) смерть «в пьяном виде под забором». По словам Антона Павловича, это предупреждение произвело впечатление — единственный раз за все двадцать пять лет, когда он читал критику на свои рассказы.
Но, в отличие от него, довольно серьезного в общем и целом прозаика, для которого работа над юморесками была мучительной обязаловкой, Аверченко сочинял их без напряжения, легко и только в тех случаях, когда ему самому было весело. И, как бы ни был этот журнальный галерник поглощен неистребимой текучкой, он умел наслаждаться всеми возможными житейскими благами. «Аверченко любил свою работу, — замечала Тэффи, — и любил петербургскую угарную жизнь, ресторан «Вена», веселые компании, интересных актрис».
«Тот, кто взамен «Вены» захочет открыть себе «Артерию», — будет глуп и безграмотен», — написал в похвалу любимому ресторану юморист. Туда, на угол Малой Морской и Гороховой, он постоянно хаживал с друзьями и подругами, там же назначал деловые встречи, а в конце января шумно праздновал собственные именины. И тогда под занавес выкатывали от заведения огромный торт с шоколадной надписью «Аркадию Сатириконскому».
«Сатирикон» (1908–1914) вместе с пришедшим ему на смену «Новым Сатириконом» (1913–1918) были самыми популярными насмешливо-язвительными журналами старой России. А главным человеком в них — душой, неистощимым выдумщиком и заводилой, ведущим автором и безусловным авторитетом — являлся Аркадий Аверченко.
Один из авторов «Нового Сатирикона» Владимир Маяковский, описывая ночной пейзаж, сумел зарифмовать фамилию своего работодателя:
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Да, закрутить строку так, чтобы она сверкала, Аверченко был мастак, в чем легко убедиться даже по его ответам на присланные в редакцию письма:
***
«Скоро ли вы меня тиснете?»
—Ах! Сударыня, оставьте это.
***
«Получена ли моя рукопись? Не затерялась ли?»
— Если бы затерялась!.. А то получена!!!
Когда журналист Николай Иорданский печатно упрекнул его за то, что он появился на церемонии прощания с умершим издателем Алексеем Сувориным (с ним Аверченко конфликтовал), редактор «Сатирикона» на страницах журнала ответил: «На похоронах был, не отрекаюсь. Для вашего утешения могу сказать, что на ваших похоронах буду с еще большим удовольствием».
Его коллегам в ту пору приходилось нелегко, иные ради спасения своих детищ пускались во все тяжкие. Так, шеф «Синего журнала» (в будущем известный советский журналист) Василий Регинин однажды дал в газеты объявление о том, что на представлении в цирке Чинизелли войдет в клетку с тиграми и там выпьет свой кофе, предпочтет, так сказать, быть скорее растерзанным, нежели разоренным. Хищников загодя должны были плотно накормить, служители с брандспойтами стояли у клетки наготове, но кто мог поручиться, что у тигров не взыграет охотничий инстинкт? В звенящей тишине битком набитого цирка Регинин действительно вышел на манеж, с нарочитым спокойствием подошел к клетке, осторожно открыл дверь, вошел внутрь, где в углу на столике уже стояла чашечка любимого напитка, сел на стул и не спеша выпил. Затем медленно поднялся и, не поворачиваясь к зверям спиной, тихонько вышел. Тигры лениво проводили его глазами. Но как только захлопнулась дверь, бросились на прутья клетки, яростно ее сотрясая. Следом в «Синем журнале» опубликовали фотографии, сделанные во время этого аттракциона. Тираж издания на время взлетел.
«Сатирикону» столь экстремальная реклама не требовалась. На его авторитет работали замечательные карикатуристы Алексей Радаков и Ре-Ми (Николай Ремизов), не отказывались посотрудничать и такие мастера, как Иван Билибин, Борис Григорьев, Мстислав Добужинский, Сергей Судейкин, Александр Яковлев... Из прозаиков блистали сам Аверченко и династическая ровня ему Тэффи, в спину им дышали Аркадий Бухов и Осип Дымов. Оттачивал афоризмы Дон-Аминадо, подметивший однажды, что «про каждого человека можно написать роман, но не каждый человек заслуживает некролога». С энтузиазмом поддерживал сатириконцев маститый Александр Куприн. Украшали журнал стихи Саши Черного, Петра Потемкина, Николая Агнивцева. Аверченко не побоялся позвать к себе в команду даже вышеупомянутого скандального футуриста Маяковского, правда, притворно справлялся у коллег: «А не развратит ли он нашу редакцию?» — «Если наша редакция такая бездарная, — отвечали ему в тон, — то и пусть развращает».
Когда Аркадий Аверченко появился в столице, его ужаснуло, что газетно-журнальная юмористика скатилась до набившего оскомину вышучивания безответных персонажей вроде «дачного мужа», «злой тещи» или «купца, подвыпившего на маскараде». Писатель задался целью разворошить на страницах наиболее востребованной низовой печати весь многолюдный петербургский муравейник. В бесчисленных рассказах он вовлекал в забавную, а затем все более абсурдную игру всех, кто попадался под руку: учителей, студентов, чиновников, торговцев, политиков, городовых, артистов... Себя же, меняя маски, как перчатки, представлял то чудаком, то плутом, то недотепой, то балагуром, то простаком. В рассказе «Поэт» он —жертва собственной профессии, бедолага-редактор, которого настырный графоман без конца терроризирует своим отвергнутым стихотворением, читает и перечитывает ему в редакции свое произведение, засовывает оное в его книгу, навязывает через извозчика, кухарку, швейцара, уличного мальчишку, сына, возвращающегося с нянькой из кинематографа, и остававшуюся дома жену. Вечером редактор находит эти стихи в ящике с сигарами, затем — внутри холодной курицы (ее подают на ужин), следом — под одеялом и отдельно под подушкой, а утром, после бессонной ночи, — еще и в каждом ботинке. Гоголевскому Ивану Федоровичу Шпоньке, которого надумала женить властная тетушка, во сне повсюду мерещится жена, она у него и в шляпе, и в ухе, и в кармане, но этому герою достаточно проснуться, чтобы избавиться от кошмара, а доведенный до крайности рассказчик вынужден просить издателя, чтобы тот освободил его от редакционных обязанностей, и данное прошение приходится переписывать, поскольку на обороте непонятно как оказался все тот же злосчастный стишок.
Добиваясь плотности письма, Аверченко часто сжимал миниатюру, как пружину, до беспримесных диалогов, и она, миниатюра, просится уже не только в печать, но и на подмостки. «Между корью и сценой существует огромное сходство, — говорил Аркадий Тимофеевич, — тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть». Но для него самого эта болезнь стала хронической, ведь он был заядлым театралом и в «Сатириконе», кроме всего прочего, выступал как постоянный театральный рецензент или, если сослаться на подпись под его рецензиями, Старая театральная крыса. В петербургских театрах миниатюр на Литейном и Троицкой шли его одноактные пьесы. Скетчи по рассказам Аверченко исполняли в Москве (в Никольском театре миниатюр и кабаре «Летучая мышь»), показывали в провинции.
Полжурнала (издание выходило еженедельно на шестнадцати страницах) он мог заполнить в одиночку. С 1910-го по 1917-й включительно вышли три с половиной десятка его книжек — от трех до восьми ежегодно (не считая переизданий). А самая первая — «Веселые устрицы» — перепечатывалась семь раз.
Если русские классики второй половины XIX века вышли из гоголевской «Шинели», то Аркадий Аверченко — из предшествовавших ей «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где бьет ключом «настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности» (Пушкин). Именно такой, вернувший свободный смех в литературу (где прежде признавали лишь смех сквозь слезы, пронизанный «гражданской скорбью и тоской о несовершенстве человечества») собрат был по сердцу Тэффи. Но способность озирать «всю громадно-несущуюся жизнь» «сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» — это как раз то, к чему пришел сам Гоголь после «Вечеров». В «Мертвых душах» он горько жаловался на злую писательскую судьбу, но всецело ей подчинился, хотя на грозный, сатанинский смех Щедрина способен не был ни по своему характеру, ни по своей душевной организации, ни по природе своего дара.
Аркадий Аверченко не смог избежать ожесточения. Ведь ему пришлось пережить в российской столице и мировую войну, и Октябрьский переворот, и начало красного террора. А эмиграция прогнала его «кувырком по Европе»: Константинополь, Белград, София, Прага.
В 1921 году в Париже вышел сборник рассказов «Дюжина ножей в спину революции». Там голодная петроградская компания по вечерам смакует одни лишь воспоминания о еде, восьмилетняя девочка прекрасно отличает стрекот пулемета от стрельбы пачками и трехдюймовку со шрапнелью не путает. «Откуда ты это знаешь?» — удивляется взрослый рассказчик. «Поживи с мое, — отвечает она, — не то еще узнаешь». Обыватели, забывшие, что такое книги, ходят за город полюбоваться на виселицы: одна на букву «Г» похожа, другая — на «П». Почитают, складывая эти буквы, люди и идут по домам. «Все-таки чтение — пища для ума»...
Книжка понравилась Ленину, и это, пожалуй, самое смешное.
Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».


