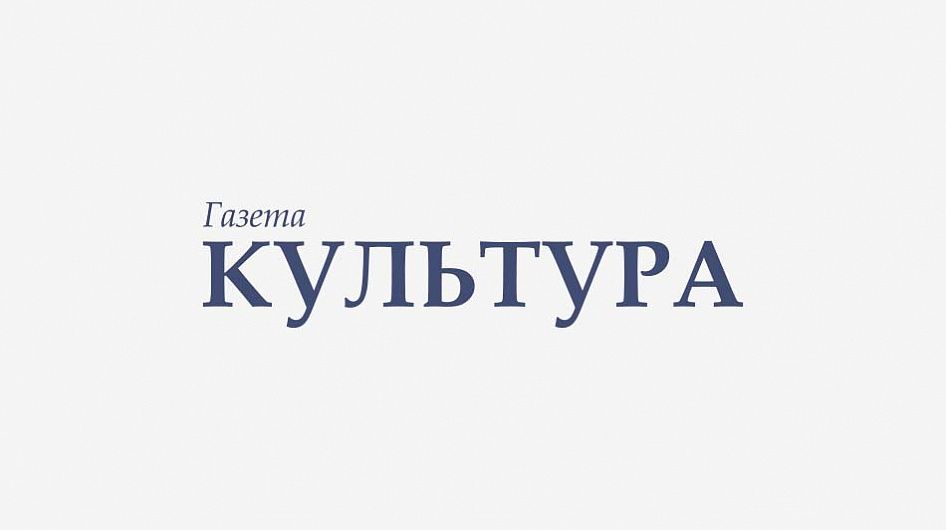
«Ольга Калашникова. Крепостная любовь Пушкина»
В издательстве «Молодая гвардия» выходит новая книга о Пушкине. Это знаковое событие, если учесть, что свежих биографических исследований не появлялось восемь лет, — со времени последнего переиздания «Жизни Пушкина» Ариадны Тырковой-Вильямс. Известный историк и писатель, автор монографий «Арина Родионовна», «Толстой-Американец», «Мария Волконская» Михаил ФИЛИН предлагает читателю разделить с Александром Сергеевичем периоды его деревенских ссылок. Крепостную «Эду», ставшую прототипом Акулины из «Барышни-крестьянки» и Дуняши в «Станционном смотрителе», звали Ольгой.
Избранница молодого барина
... Неисправимый Пушкин, эта «сумасшедшая голова, с которою никто не сможет совладать», был в июле 1824 года выключен из службы «за дурное поведение» и удален «в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства». Утром 1 августа поэт понуро покинул Одессу.
9-го числа он добрался до сельца Михайловского, где застал предававшихся летнему отдыху отца с матерью, сестру Ольгу, «курчавого брата» Льва и любезную Арину Родионовну.
...Надвинулись холода. Члены семьи поэта дружно оставили Михайловское. Александр Пушкин, избавившись от опостылевшей родительской опеки, остался коротать зиму вместе с няней.
...Ольге Калашниковой было в ту пору девятнадцать лет. В таком возрасте крестьянки обычно уже имели собственные семьи и детей, но случалось, что они шли под венец и позднее. Вероятно, родители девки покуда не смогли подыскать ей солидного, подходящего по статусу жениха. И Ольга числилась в «сенных», то есть горничных, выполняла различные работы в господском доме и входила в «молодую команду» (И.И. Пущин), которая пряла и вышивала в покоях Арины Родионовны.
К СОЖАЛЕНИЮ, «описание росту и примет» Ольги Калашниковой, сделанное в 1831 году, утрачено. Ее портреты, выполненные поэтом или кем-нибудь еще, нам неизвестны. Поэтому составить представление о внешности (да и о характере) девицы можно разве что самое приблизительное, основанное по преимуществу на весьма специфических, литературных источниках. <...>
В четвертой главе «Евгения Онегина», которая создавалась в сельце Михайловском, есть строфа, написанная в декабре 1825 года и повествующая о «вседневных занятьях» заглавного героя. (Как известно, тут поэт довольно точно изобразил собственное времяпрепровождение в псковской деревне.) Среди постоянных трудов анахорета значился и такой:
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...
На приведенном двустишии ст?ит задержаться, ибо перед нами, как это ни парадоксально, самая подробная характеристика внешности Ольги Калашниковой.
«Белянка» — ключевая лексема — нуждается в кратком пояснении. Некоторые значения данного слова порой ускользают от комментаторов, и они пишут исключительно «о белолицей, с белой кожей девушке». Однако встарь так величали и юниц «пригоженьких», «белокурых, светло-русых».
Итак, Ольга Калашникова мало походила на традиционную крепостную крестьянку. В сельце Михайловском перед Александром Пушкиным предстала миловидная, в самом, что называется, соку особа отнюдь не робкого десятка. Деревенская Эда была черноглаза и русоволоса; при этом она имела на удивление светлый, почти белый цвет лица.
Немудрено, что лицейский друг Пушкина, Иван Пущин, навестивший опального поэта в январе 1825 года, сразу остановил взор на дочери управляющего. «Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи, — вспоминал декабрист. — Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений».
Своим «нездешним» ликом девица явно выделялась среди обитательниц «далекого северного уезда». Побывав в комнате Арины Родионовны и разглядев вышивавшую Ольгу Калашникову, он вмиг смекнул, кем является эта броская девица для Пушкина: «Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием».
НАБРОСКОМ «Смеетесь вы…» и стихами о «белянке» поэт не ограничился. Едва заметное присутствие Ольги Калашниковой было обнаружено исследователями и в некоторых других пушкинских произведениях михайловского периода. Намек на нашу героиню (видимо, унаследовавшую от отца некоторые музыкальные способности) слышится и в четвертой песни «Евгения Онегина», написанной, как и строфа о «белянке молодой», в декабре 1825 года:
В избушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.
Когда в 1828 году четвертая и пятая главы романа вышли в свет отдельным изданием, столичные критики (Б.М. Федоров в «Санкт-Петербургском зрителе» и М.А. Дмитриев в «Атенее»), прочитав процитированные «демократические» стихи, сделали большие глаза. Они недоумевали, «как можно было назвать д е в о ю простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы д е в ч о н к а м и». То-то поразились бы аристархи, проведав, что Пушкин и раньше, вдобавок не единожды, втихомолку грешил и поэтизировал крепостную девку, переиначивая ради этого даже высокие образцы европейской поэзии.
Не будь этих стихов, пришлось бы нам согласиться с В.В. Вересаевым и другими авторами, которые сочли происходившее в сельце Михайловском «типическим крепостным романом, — связью молодого барина с крепостной девкой». Но поэтические строки доказывают, что Пушкин увлекся Ольгой; что его «роман» все-таки не чета «типическим», ибо он вмещал в себя толику «морали», а не сводился единственно к «хфизике». <...>
Еще в 1825 году господа сделали Михайлу Калашникова фактическим управляющим имением Болдино, и он был вынужден периодически наведываться в нижегородское владение Василия и Сергея Львовичей Пушкиных. По каким-то причинам переезд семейства Калашниковых на новое место жительства задерживался. Потом, когда растаяли снега и высохли дороги, пришла пора покидать Михайловское. Начались суетные сборы… Тогда-то Ольга и сообщила не жалующему весну барину, что она в тягости. <...>
ЗА ОКНОМ стоял апрель 1826 года. И над поэтом снова собирались тучи. Александр Пушкин понимал, что он в одночасье превратился из беззаботного любовника в похотливого «злодея» — того самого, из собственной «Деревни». Ему надлежало срочно объясниться с отцом «белянки». А впереди замаячили и наказание поднадзорного за распутство, и тяжелые, непредсказуемые разговоры с батюшкой Сергеем Львовичем, и хлопоты с нечаянным младенцем.
Собравшись с мыслями, Пушкин придумал-таки схему избавления от напастей. Впоследствии князь Петр Андреевич Вяземский, готовя к публикации в «Русском архиве» переписку поэта (1874), начертал на подлиннике этого письма: «Не печатать». Содержание послания говорило само за себя:
«Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится — а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о п о п е; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется — а нельзя ли его покаместь отдать в какую-нибудь деревню, — хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно ей богу… но тут уж не до совести».
Он натужно шутил, но не лукавил: ему было не по себе, тошно. <...>
Рассудительный князь настоятельно порекомендовал Пушкину обернуться дипломатом: «Мой совет: написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда, волею Божиею, ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде».
Крыть логичные доводы, к тому же сопровожденные недвусмысленным воззванием к совести, поэту было нечем. А относительно предложенного князем спасительного «средства» Пушкин меланхолично написал: «Ты прав, любимец Муз, — воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело».
То, что началось на исходе 1824 года с лирического «младого и свежего поцелуя» и на весьма высокой ноте продолжилось, завершилось, увы, так, как завершалось почти всегда и у всех. За тривиальный финал романа совестливый Александр Пушкин расплачивался целых десять лет — до самой смерти.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Возможно, в этих стихах, которые сравнивались даже с 50-м псалмом царя Давида, незримо присутствует и брошенная на произвол судьбы «белянка».
Болдинская осень
Правительство давно простило поэта и вернуло в столицы из северной ссылки. А весною 1830 года участь Александра Пушкина решилась окончательно: 6 мая в Москве состоялась его помолвка с m-lle Natalie Gontcharof. <...> По такому случаю расчувствовавшийся Сергей Львович Пушкин выделил сыну «в вечное и потомственное владение» часть нижегородского родового имения — 200 незаложенных крестьянских душ в деревне Кистенево, неподалеку от села Болдино. <…>
ВРЕМЕНА стояли тревожные: по российским просторам разгуливала Cholera morbus. <...> Против своей воли Пушкин почти на три месяца стал узником села Болдино и его ближайших окрестностей. Ограниченный в свободе передвижения поэт оказался в ситуации шестилетней давности. Правда, его вынужденного одиночества на «несносном островке» не могла ныне скрасить старушка няня.
Но зато рядом с Александром Пушкиным, как и в сельце Михайловском, находилась Ольга Калашникова. Теперь ей было двадцать пять лет. Они свиделись и как-то объяснились в сентябре, вскоре после приезда поэта в Болдино. По всей вероятности, тогда же Пушкин узнал о судьбе сына. Возможно, Ольга проводила барина к могиле их ребенка, умершего ровно четыре года назад; по дороге что-то рассказала о рождении и смерти «малютки». Поэтическим следствием этой пронзительной прогулки à deux стало «одно из самых грустных стихотворений» Александра Пушкина — «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…»
Оно датируется 1−10 октября 1830 года. Участников можно идентифицировать: это приближающиеся к болдинской Успенской церкви властный Михайло Иванов Калашников, Ольга и ее мать Васса (Василиса), а также болдинский священник Иоанн Матвеев с поповичем:
…На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несёт подмышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил,
Скорей! ждать некогда! Давно бы схоронил...
В ряде произведений, созданных накануне женитьбы, «болдинский помещик» прощался с былыми возлюбленными. Однако в его сочинениях тех месяцев, в стихах и прозе, пульсирует тема возвращения к женщине, с которой в прошлом было многое связано.<...>
СДАЕТСЯ, что в Болдине... холерной осенью 1830 года барин и крестьянка Ольга волшебным, казалось, образом перенеслись на пять-шесть лет назад, в сельцо Михайловское; отчасти даже прониклись былыми настроениями.
Александр Пушкин увлек свою давнишнюю подругу в изменившуюся реку. Сам он ходил в женихах, был без пяти минут супругом. Узнавшей эту новость Ольге надлежало не только щеголять маской нежной Эды, тайком ревновать и горевать об ускользающем курчавом барине, — но и думать о собственном завтрашнем дне, о родителях и братьях.
Быть вечно ждущей увядающей «белянкой» ей не хотелось. Так что в господский «печальный замок» наведывалась меняющаяся, деловитая Ольга: довольствуясь настоящим, она не упускала из виду и будущее. Там за нее — и, конечно, за родню — должны предстательствовать и месяцы пылких страстей, и могилка младенца Павла.
...В Болдине Александр Пушкин дал клятвенное обещание «всегда делать милость» семейству Калашниковых. Для Михайлы и остальных эти слова барина были пределом мечтаний: они обрели заступника...


