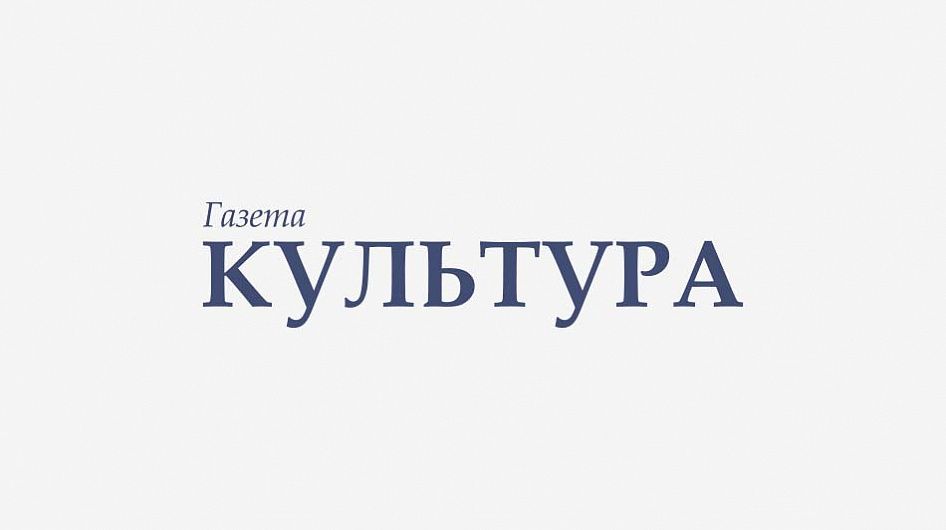
«Дорогой Михаил Александрович!..»
К 110-летию Михаила Шолохова мы впервые публикуем письма читателей автору «Тихого Дона»
Наталья КОРНИЕНКО, член-корреспондент РАН, заведующая отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ
Трудно сказать, какое место в Год литературы будет отведено читателю. Не произойдет ли привычной для последних десятилетий подмены этой авторитетной и фундаментальной для русской словесности фигуры привычными суждениями горделивой окололитературной публики?
«Последнее и единственно верное оправдание для писателя — голос публики, неподкупное мнение читателя, — утверждал Александр Блок в статье «Душа писателя». — Что бы ни говорила «литературная среда» и критика, как бы ни захваливала, как бы ни злобствовала, — всегда должна оставаться надежда, что в самый нужный момент раздастся голос читателя, ободряющий или осуждающий. Это — даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно — коллективной души...» Для Михаила Шолохова понятие народа не было абстрактным — ни в творчестве, ни в личной жизни. Он мог годами, оставив работу, заниматься судьбами вёшенцев и лично не известных ему читателей «Тихого Дона» и «Судьбы человека». Ни разу не обмолвился, когда его современники начали открытую борьбу с культом личности и с ним самим, о своих письмах к Сталину, посвященных страшным страницам жизни народа — коллективизации, голоду и репрессиям в Вёшенском районе. Мы об этих поступках Шолохова узнали в 90-е годы ХХ века. Только в доверительном письме своему верному корреспонденту Евгении Левицкой от 23 ноября 1938 года он проронит, что «большая нужда» заслонила его литературные дела: «Пишут со всех концов страны, и, знаете, дорогая Евгения Григорьевна, так много человеческого горя на меня взвалили, что я уже начал гнуться. Слишком много для одного человека»...
Вчитываясь сегодня в текст нобелевской речи Шолохова, понимаешь, что за высокими словами о народе, отлитыми в математически точные формулы, открывается героический и трагический мир «Тихого Дона» и «Они сражались за Родину». Писатель говорил тогда о служении «своим пером трудовому народу», о призвании и задачах художника, «считающего себя не подобием безучастного к людским страданиям божества, вознесенного на Олимп над схваткой противоборствующих сил, а сыном своего народа, малой частицей человечества». И в признании, что все его творчество — это «поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни на кого не нападал, но всегда умел с достоинством отстоять созданное им, отстоять свою свободу и честь, свое право строить себе будущее по собственному выбору» — заключена та правда, которую вынесли из трагических переломов его герои и читатели на их непростом пути к дому и миру. Он прошел эту дорогу жизни вместе со своими героями и со своим народом.
Суждения «народа-читателя» о книгах Шолохова, высказанные, как признавался один из его корреспондентов, «не для печати, не для гласности», — эта часть наследия Шолохова еще только предстает для нас во всем объеме и масштабе. Десятки тысяч писем хранятся в московских архивах и фондах Музея-заповедника М.А. Шолохова в Вёшенской. В этой своеобразной энциклопедии представлены рабочие, инженеры, крестьяне, партийные работники, красноармейцы и белогвардейцы, учителя и врачи, просвещенные и неискушенные читатели — с их просьбами, исповедями, лирическими признаниями, дерзкими вопросами к писателю и его героям, требованиями «ответить по существу»...
Юбилей Михаила Александровича Шолохова будет широко отмечаться в газете «Культура». И, в частности, мы предложим вам несколько подборок писем — впервые становящихся достоянием широкой аудитории.
Ну, а сейчас — слово трем читателям «Тихого Дона».
23 ноября 1934 г.
Не касаясь художественных достоинств книги, считаю необходимым сообщить свое мнение по вопросу о политической выдержанности книги, вероятно, вопреки общепринятым взглядам.
Самой яркой, живой и остающейся в памяти фигурой в книге «Тихий Дон» является фигура Григория Мелехова. Как человек он наделен храбростью, сметкою, упорством и настойчивостью, неплохими физическими данными и т.д. Нестойкость и шатание в политических вопросах, неопределенность и смена симпатий к политическим группировкам в незначительной степени могут служить факторами, отрицательно влияющими на впечатления читателя; даже такого, который достаточно искушен в критике или имеет солидное образование и политическую выучку. В подавляющем же большинстве случаев впечатления о Григории Мелехове будут положительные, вызывающие симпатии, восхищение и чувство подражания.
Иными словами, громадное большинство читателей, имея в виду законы художественных восприятий, будет отождествлять себя с Григорием Мелеховым, а не с кем иным из героев.
Но ведь Григорий классовый активный враг пролетариата. Кому же нужны чувства восхищения и подражания нашему классовому врагу. Получается так, что в книге классовый враг (3-я книга особенно) герой и умница, а герои кр. бедноты и пролетариата серые, часто ходульные. Такая установка, если можно так выразиться, едва ли приемлема для нас.
В кратком письме едва ли возможно написать критический обзор книги, поэтому я ограничиваюсь вышеуказанными общими замечаниями.
Несколько еще организационных выводов, которые я бы сделал, исходя из указанных предпосылок.
Третью книгу «Тихого Дона» запретить, если в четвертой книге Григорий не осознает правоту пролетариата и не перейдет на сторону красных, где покажет себя таким же храбрецом, каким был у белых.
Всякое другое окончание будет, по-моему, контрреволюционным.
Донбасс, Горловка, больница. М.И. Самохатько.
25 июня 1935 г.
Многоуважаемый товарищ Шолохов!
Как участник и свидетель большинства событий, описываемых Вами, в период германской и гражданской войн, констатирую, что Вам удалось изобразить весьма правдивую действительность. Правда, я как пехотинец чувствую тенденцию с Вашей стороны преувеличить роль казачества в германскую войну. Не отрицая, что пришлось им поработать, но все же я считаю, что кавалерийские части в прошлую войну не были использованы надлежащим образом и их положение на войне было несравнимо лучше положения пехотинца. Если пехотинец принял участие в революции благодаря беспросветности как на фронте, так и в тылу, то казак — прямо по врожденному шкурничеству. Не отрицая индивидуальной лихости, скажу смело, что казак с его прошлой психологией был плохой боец и напоминал разбойника, норовящего ограбить беззащитного, уклоняясь от открытого боя. Я не судья казакам, но, к сожалению, это мое личное впечатление как в германскую, так и в гражданскую войну.
Русский крестьянин, будучи сам беден, знал нужду своих домашних, с жалостью относился к прифронтовому жителю и, если мог помочь чем-либо, с охотой помогал. Казак дома нужды не испытывал и, понятно, не имел чувств таких к бедноте, норовя по традиции привезти в станицу трофеи в виде подарков для баб и вещей, могущих убедить станичников в его лихости и участии в непосредственном соприкосновении с противником. Поэтому одиночкам пленным с ценными вещами приходилось очень плохо.
Почему казаки не пошли за Калединым? Не отрицаю, что существенную роль играла усталость, но ведь и красноармейцы, и белогвардейцы устали, а все же шли. Первые за своими вождями, вторые за своими. «Да чаво мине надоть. Пущай дерутся, а я посмотрю. Охота погибать что ли? Баба есть, кресты есть, земля есть». Часто обывательская психология, или, как говорили до революции, мужицкая, была отличительной чертой казаков. Идеи не было. Красноармеец, ничего не имеющий, усталый, забитый царским начальством в ту войну, комиссарами в гражданскую войну, шел в бой с идеей: или завоевать лучшую жизнь, или умереть. Почему шел в бой так же уставший доброволец? Многие и даже эмигрантщина утверждают, что защищали свое имущество и положенье. Ложь! Нам была дорога родина, честь ее, народ и честь его.
Да бойцами-то у Корнилова были в большинстве люди без имущества и положения. Были лишь более индивидуальны, чем красноармейская масса, но политически так же несведущи, как и те. Шли они за Корниловым, веря ему, как казаку-генералу, бежавшему из плена и поставившему задачей довести страну до Учредительного собрания и создания фронта против немцев, беззастенчиво шедших в страну, армия которой протянула руку мира. Не думайте, что нам, рядовым бойцам, нужны были помещики и дегенеративные аристократы. Мы шли к одной цели, но разными путями. Ваш путь был более правильный, потому что за вами пошли массы, наш путь был ложным, потому что за нашими спинами свили гнезда мерзавцы, для которых нет понятия родины, а есть лишь понятие личного благополучия.
Лучшие люди — активные участники исторических событий, кто бы то ни были — офицер ли, солдат ли, казак ли, штатский ли, но раз он сложил свою голову за идею, он заслуживает почтения. Мерзавцы же всегда строят счастье личное на костях павших за идею. Не приди немцы на Дон, вряд ли удалось бы Краснову или Деникину поднять их. В начале события я не был на Дону, но на Кубани. Что побудило кубанцев отозваться на призыв Добровольческой армии? Жадность. Иногородние, будучи ограниченными в правах в станицах в сравнении с казаками, с приходом большевиков выдвинули требования об уравнении их в правовом и земельном отношении. Казак понял, что ему новая власть не в пользу, и, конечно, обернулся к белым. Кубань очистили, Дон очистили, вот казак и подумал: «Ну что ж, надоть еще пограбить кацапов, да и довольно». Так, собственно, и сделали. Вмешивались ли вначале добровольцы в станичные дела? Никогда. Мы, приходя в станицы, никогда не интересовались ее внутренними раздорами. Расправы, очевидцем которых я был, проводимые самими казаками над бывшими у власти при большевиках, были ужасны. Когда у меня окончательно возникла мысль, что казак по своей психологии обыкновенный мужик-собственник? Да в самом начале гражданской войны. Ему бы так: «Держитесь, да меня не трогайте. Заплатите за сено, за харчи, и больше ничего».
Простите, что я, кажется, уклонился от главного, а именно от оценки Вашего произведения.
Я прочел 3 книги «Тихого Дона» и одну книгу «Поднятой целины». Читал запоем. Искренность и желание быть объективным чувствуется. Изображение станичной жизни, обихода, взаимоотношений столь рельефно, что читатель невольно переносится в станицу и как бы живет в ней. Страсть, любовные сценки изображены так рельефно и правдиво, что опять-таки видишь жизнь человеческую в том свете, в каком она явствует на самом деле. С моей личной точки зрения считаю, что та часть произведения, которую удалось мне прочесть, будет вкладом в художественную литературу и в то же время дает ценный исторический материал.
Психологический анализ также правдоподобен, и только необходимое участие в революции Штокманов и Валечек (очевидно, Валеток. — «Культура»), якобы играющих роль реактива в клокочущем растворе революции, давшие положительные реакции и благотворно действующие на ее элементы, — позиция неискренняя. На мой взгляд — реактив, портящий весь процесс. Узнав Европу, ее отношение к народам, населяющим Советский Союз, я возненавидел их всей душой. Если бы колесо истории могло повернуться чуточку назад, а мои познания остались бы интересами, возможно, что не было бы и Вашего литературного труда, навевающего грусть и обиду. Мерзка русская буржуазия, прожигавшая денежки за границей и не заметившая местного зла. Когда прочту все, еще раз побеседую с Вами, если не сочтете эту беседу убогой и не покажется поперек времени. Я очень скромен.
Остаюсь с уважением <Глувчинский — подпись неразборчива; конверт с адресом в архивной папке отсутствует>.
P.S. Кстати, я бы весьма был рад получить от Вас ответ на свое письмишко. 15 лет отделяют меня от пространств родной земли, и все кажется, что это было лишь вчера. Еще чувствую себя сильным и бодрым для того, чтобы вновь вступить в активную борьбу, но уже не как ваш противник, а рука об руку, с врагами, стремящимися расчленить нашу общую землю.
Я не раскаиваюсь в своем прошлом, т.к. мои действия были совершены из любви к родине.
Полученная за границей жизненная школа настойчиво требует в минуту опасности для вас идти с вами на общих врагов. Моими единомышленниками являются все рядовые эмигранты-фронтовики.
Дорогой Михаил Александрович!
Мое детство и юность прошли в одном из донских хуторов. Когда впервые была опубликована первая часть «Тихого Дона», я прочитал ее не отрываясь.
Помимо того волнения, которое, вероятно, испытали миллионы других читателей, у меня осталось еще и впечатление неожиданной встречи с чем-то родным и близким.
В то время я работал в станице Константиновской и через несколько недель встретил человека, который знал Вас лично — им оказался милиционер Щегольков, фамилия которого упоминается Вами в связи с «подвигом» Кузьмы Крючкова. По словам Щеголькова, он служил с Вами в продотряде.
С тех пор я старался не пропустить ни одного Вашего произведения, ни одной статьи.
Но дело сейчас не во мне лично — мне хотелось бы рассказать об одном необычном эпизоде, связанном с «Тихим Доном».
В 1938 году я был арестован и после нелегкого следствия и скитаний по пересыльным тюрьмам попал в одно из отделений сельскохозяйственного Мариинского исправительно-трудового лагеря (Кемеровская область).
Там застала меня война.
Вместе с сотней других заключенных я работал в ремонтно-механических мастерских. Жили мы в условиях строгого режима, в бараке, у которого над поверхностью земли возвышалась только крыша. Зима в тот год стояла особенно суровая, с сильными морозами и буранами, а одеты мы были не по климату. Работали много, было голодно, а холодно не только на работе, но и после нее.
Но в основном угнетало нас другое. Главное было в непонятности всего происшедшего с нами (а среди нас было много коммунистов), в отсутствии связи с семьями, в неизвестности, что же будет с нами дальше.
Раньше были какие-то надежды на пересмотр наших дел — сейчас же было ясно, что на это рассчитывать нельзя ни в настоящее время, ни после войны; мы — «зэка» (употребительное сокращенное от слова «заключенные») и останемся ими долго; кроме того, теперь уже никогда не сумеем доказать свою невиновность и навсегда за нами сохранится клеймо «врага народа», а в лучшем случае «бывший враг народа». Исчезала и надежда на встречу с семьями.
И вот в этих условиях мы где-то добыли седьмую часть «Тихого Дона» (книги были у нас большой редкостью).
Читали ее вслух много вечеров — времени для этого было мало.
После работы старались как можно быстрее закончить обычные бытовые дела.
Потом все укладывались на сплошные двухъярусные нары, укрывались своей одеждой (холодно было в бараке) — все затихало, предметы и люди неясно обозначались в полутьме.
Я усаживался за стол, подвигал поближе коптилку и начинал чтение.
Слушали с напряженным вниманием; если кто-то не смог сдержать кашля, я на эти минуты делал перерыв, люди хотели услышать все до последнего слова.
Хотя прошло уже почти 30 лет, я помню с удивительной ясностью, как слушали они те страницы, где описывались сцены прополки бахчи, приезд Григория домой после смерти Натальи. Затаив дыхание, лежали они, потрясенные и захваченные чужими страданиями.
У меня самого перехватывало от волнения голос, и тогда мы молчали все, ожидая пока я снова могу продолжить чтение.
Я переживал то же, что и мои слушатели, и одновременно меня охватывал трепетный восторг и гордость — восторг, изумление перед силой слова, заставившего всех нас забыть свои искалеченные жизни, вечную тревогу за близких, тоску при мысли о тревожном будущем — забыть свою судьбу и жить чужой. Я не могу сказать «судьбой вымышленных людей» — для нас они были людьми живыми, с которыми мы все время шли рядом.
А гордость я чувствовал за нашу родину и за наш тихий Дон, породивших писателя, который мог создать такую книгу.
И в те же дни я дал слово: если когда-нибудь меня реабилитируют, то я обязательно напишу Вам обо всем этом от себя и своих слушателей.
Но до реабилитации лежал длинный и довольно тернистый путь — освобождение в 1946 году, унизительные поиски работы, непродолжительная работа в хорошем коллективе, второй арест, ссылка, и только в конце 1955 года я был реабилитирован и восстановлен в партии.
Но к этому времени я начал сомневаться — нужно ли Вам писать обо всем этом?
А годы между тем шли.
Недавно попал в больницу на операцию — по существу она была несложной. Но ведь бывают всякие случайности. И вот, лежа в палате и перебирая в памяти прошлое, я по-иному оценил свое обещание и заволновался: «А вдруг операция будет неудачной и я уже не смогу Вам написать о давно прошедшем эпизоде? Может, это будет для Вас важнее некоторых парадных выступлений, которые я слушал в Ростовском театре в день Вашего 60-летия?»
Операция прошла благополучно, и я уже снова на работе.
С большим опозданием я выполняю свое обещание. Спасибо Вам и низкий поклон от меня и моих слушателей за все написанное Вами.
Будьте здоровы, дорогой Михаил Александрович, и живите, пожалуйста, еще долго-долго.
Л. Донецкий, 19/V-1972, Ростов-на-Дону.


