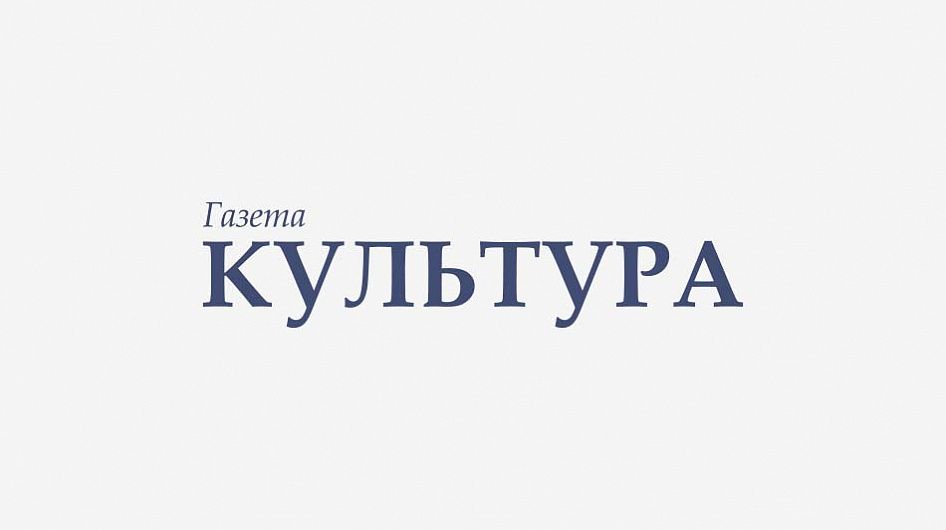
Дмитрий Певцов: «С тех пор как я начал приходить к вере, антагонизм между мной и моей профессией становился все сильнее»
Материал опубликован в печатном номере газеты «Культура» № 3 от 25 марта 2021 года.
В новой премьере МХАТ имени Горького, выпустившего спектакль по роману-житию Евгения Водолазкина «Лавр», играет Дмитрий Певцов (Рассказчик, он же Амвросий, он же Лавр). Его роли примечательны тем, что в них слилось личное и профессиональное: он, человек верующий, произнося текст Водолазкина, в то же время говорит о себе. Такое случается редко. Это и определило тональность разговора.
— Чем роль в «Лавре» для вас значима — не только как для артиста, но и как для верующего человека?
— Как для артиста она для меня абсолютно незначима, потому что меня уже давно не интересует мое актерское творчество. Я отношусь к нему очень спокойно и не хочу никого поражать (себя главным образом) сценическими удачами. Мое участие в «Лавре» — прежде всего человеческий поступок, вот это для меня важно. «Лавр» — уникальное произведение русской литературы, а обращение к житию святого, пусть даже вымышленного, — вообще единичный случай. Придя на репетиции всего за два с половиной месяца до выпуска спектакля, я увидел, что сценический язык найден, и уже не смог отказаться. Но я вошел в работу не для того, чтобы что-то сыграть, а чтобы участвовать в благом деле.
— В конце девяностых я брал интервью у Альберта Филозова, прекрасного артиста и глубоко верующего человека. Я его спросил: «Мы говорим о вере, но как это сочетается с вашей работой в театре?» Он мне ответил так: «Когда я на сцене и зал замирает, слушая меня, я чувствую то же, что в церкви во время молитвы». Наверное, это экстремальные переживания тонко чувствующего человека, но связано ли что-то подобное с вашей работой в театре?
— С тех пор как я начал понемногу приходить к вере, антагонизм между мной и моей профессией становился все сильнее. Но есть спектакли, которые несут веру и любовь, добро и надежду... Свет. Даже если я играю «плохиша», отрицательного героя, мое участие в них помогает мне существовать в профессии актера. И верить в то, что я занимаюсь этим делом потому, что талант дан мне от Бога.
Я очень хорошо помню, что один замечательный духовник из Питера сказал на похоронах моего старшего сына. По его словам, в годы безбожия для многих верующих храм Божий частично заменило искусство. И я глубоко убежден, что любое искусство, любой талант идут от Бога и должны возвращаться к Нему через зрителей. Все это должно быть наполнено Божьей любовью, светом и добром. А остальное никакого отношения к искусству не имеет, будь то «Черный квадрат» или спектакли Богомолова.
— У вас не вполне обычная для артиста семья — очень уж она спортивная. Отец — пятиборец, мастер спорта, тренер сборной СССР. Мать — одна из основоположниц иппотерапии, прекрасный наездник. И сами вы спортсмен: дзюдо, карате... Понятно, что это дает превосходную физическую форму, о которой многие наши актеры совершенно не заботятся. Но чем вы обязаны спорту помимо этого?
— Что касается спорта, которым я занимался с детства, то я понимаю, как он мне помог, глядя на моего сына. У меня было гораздо меньше свободного времени, и оно не уходило на ерунду и глупости, на гуляние в подъездах, курение и так далее... У моих сверстников времени для такого рода глупостей было значительно больше. Отчасти это отразилось на том, что в молодости я меньше прочел, чем мне бы хотелось. Хотя я тогда и читать умудрялся... Но, прежде всего, спорт заставил меня понять, что тренироваться, тяжко работая, чем-то упорно заниматься без видимого результата для человека нормально. Для меня это всегда было абсолютно естественно.
А сейчас, отчасти наблюдая за своим сыном, отчасти глядя на молодежь вообще, я вижу, что такого рода качеств стало меньше, и они не ценятся в людях. Блогерство, сервис TikTok и прочие интернет-игрушки дают мгновенный «успех», приносят миллионы лайков... Эта ерунда никакого отношения к воле и целеустремленности, пониманию того, для чего ты живешь и где твое призвание, не имеет.
Так же, как в спорте, я «пахал» и в театральном институте. Может быть, еще и поэтому Господь дал мне шансы, которые я сумел использовать.
Я прекрасно помню ощущение, которое вынес из института: актерская профессия — это терпение и чудовищное количество работы без видимого результата. Бессмысленно смотреть на других и думать: «Кто здесь круче?» У каждого свой путь, надо развивать собственную личность, свои интеллектуальные, психические, психофизические, душевные возможности.
— И опять о старом интервью. В середине девяностых я брал его у одной дамы из «Ленкома», вы ее знаете, фамилию называть не буду. Я сказал: «Как вам повезло, вы работаете в таком успешном театре!» Она мне ответила: «Молодые артисты здесь находятся в трагическом положении, «Ленком» — кладбище судеб. Но вы этого, пожалуйста, не печатайте...» Я и не напечатал. А вы вырвались, поднялись. За счет чего? Помог случай, вам повезло? Каким был первый шаг, после которого вы пошли вверх?
— Одно из имен Господа — случай, и это значит, что с нами не бывает ничего случайного. И муравей не сломает себе лапку без Божьей воли... Что касается меня, то — если говорить о профессии — это был и случай, и цепь последовательных событий. Весь институт я занимался тем, что пахал не за троих, а за четверых, не рассчитывая на особенные результаты, был старостой курса. А в итоге, каким-то непостижимым образом, не будучи выдающимся студентом, попал в Театр на Таганке, куда меня позвал Эфрос. А дальше пошло-поехало...
— Вы начали у Эфроса, играли у Виктюка, работали у Захарова, вашим режиссером был Панфилов — очень большие и совершенно разные режиссеры. Чем они отличались в работе и что каждый из них вам дал?
— Сначала скажу о том, что их объединяло. Все они любили артистов и очень хорошо их понимали-чувствовали, были в курсе всех актерских слабостей и сильных сторон каждого. Это их объединяло, а различны они были по способам разговора с актерами, по отношению к людям и по качеству таланта.
Захаров был непредсказуем, ставил перед артистами невыполнимые задачи. Выглядело это примерно так: «...выходишь на авансцену, и глаза поголубели!» И выполняй, как хочешь...
Панфилов — абсолютный шаман. Я даже не понимаю, что у него за метод. Он просто разговаривал со мной от репетиции к репетиции, и после премьеры — тоже, и вдруг мой организм выдавал результат, которого я и сам совершенно не ожидал.
Виктюку я благодарен за то, что с ним, несмотря на то, что рядом была блистательная, великая Алла Демидова, я почувствовал, что такое власть над зрительным залом. Он открыл огромное количество молодых актеров и дал им путевку в жизнь, одним из них был я.
Ну, а Эфрос... Я с ним репетировал, не понимая масштаба этой фигуры. В Театр на Таганке, как и в «Ленком», я пришел совсем зеленым, мало что понимающим, но очень хорошо слушающимся режиссера актером. И я отлично помню, как легкость, с которой он показывал, передавалась тебе на сцене. Помню это ощущение — после его показов создавать роль было очень легко. Это была такая радость! Нет тяжкой работы, каких-то трудных поисков, мучений. Как будто подул ветер, а ты стал парусом и полетел. Таким ветром для меня был Эфрос.
— Вы работали с Эфросом, когда у него были тяжелые отношения с артистами — и на Бронной, откуда он ушел, и на Таганке. С моей точки зрения, это было не что-то случайное, разовое —повздорили люди и повздорили. Дело было во внутреннем кризисе очень большого режиссера, в его отношении к миру. Или это мои фантазии, и вы ничего подобного не почувствовали?
— Я тогда не очень интересовался окружающим миром, был сосредоточен на собственной персоне — для совсем молодого человека это нормально... Помню, как Эфрос приходил на репетиции с холтером, медицинским аппаратом, который ставят на сердце. Но я не видел его унылым, грустным, озлобленным.
Знаете, что я сейчас вдруг понял? Он был мужиком. Гением, великим режиссером, но — мужиком. Он ведь совсем не показывал, что было у него на душе. До такой степени, что это просто удивительно. Эфрос до последнего ходил на репетиции! Ситуация, конечно, была абсолютно трагической — и это при том, что Эфрос пришел на Таганку для того, чтобы спасти театр Юрия Любимова! Спасти тот театр, где он когда-то ставил «Вишневый сад», в котором играл Высоцкий... Но у меня не было ощущения, что с ним происходит что-то тяжелое. Я не видел, не понимал, как ему трудно, какую трагедию он переживает.
— Марк Захаров говорил о вас следующее: «Певцов — один из редчайших сегодня универсальных актеров. Он умеет все — от героических ролей до характерных, держит себя в форме, поет, на гитаре играет, быстро учит роли... Мне кажется, лучше всех его понял Панфилов, дав ему роль Якова Сомова в «Запрещенных людях» — не зря он и «Феликса» за нее получил. У меня есть предчувствие, что он всех нас еще удивит. Одного только не одобряю — зачем ему эти автогонки? Почему он столько ездит на мотоцикле? Актеры, тем более классные, должны себя беречь!». Адресую вопрос Марка Анатольевича вам: зачем? Вы подсели на риск?
— Все это было давно, я уже и от мотоцикла избавился, на котором ездил 18 лет. Автомобильные гонки закончились у меня в 2011-м. Но я лишь сейчас, в последние годы, начинаю понимать, как Марк Анатольевич беспокоился об этой части моей жизни... И как он ничего не мог сделать. Теперь у меня самого есть студенты, и я с тревогой наблюдаю за глупостями, которыми они занимаются.
Я слишком поздно понял, как по-отечески он ко мне относился. Сколько у нас было удивительных бесед, и коротких и не очень, которые не были напрямую связаны с работой над какой-то ролью! Мы разговаривали о профессии, об актерских и человеческих путях... Для него было очень важно, в какую сторону я буду развиваться. Он пытался мне помогать и никогда не показывал своих чувств. Хотя...
Два раза — почти за тридцать лет! — он назвал меня по имени. Это было высшее выражение нежности, он всегда и всех называл по имени-отчеству. А я идиот был и не понимал, как он ко мне относится... Хотя он это скрывал, конечно.
— Марк Анатольевич умел растить людей и многих создал. Непонятен был его человеческий масштаб, пока он был жив.
— Да, это так. Я думаю, творчеством Захарова еще будут заниматься, изучать его. И людям надо рассказывать, что это была за личность.
Марк Анатольевич очень остро чувствовал время, в своих спектаклях он говорил о вещах, которые волновали общество и его самого, конечно, в первую очередь. Это частенько касалось и власти. В СССР он говорил об этом осторожно, не впрямую, так, чтобы спектакль приняло управление культуры. Но такие великие работы, как «Юнона и Авось», которая вышла в 1981-м, были самым настоящим чудом.
— Ваша молодость и начало творческого пути пришлись на время, когда у нас был большой театр, большие режиссеры. Это было время больших театральных смыслов: выходит спектакль Марка Анатольевича, и все его обсуждают, как это было, к примеру, с «На всякого мудреца довольно простоты». Сейчас, как мне кажется, это ушло. Время больших мастеров и соразмерных им идей и смыслов, время людей, которые делали больших артистов, закончилось.
— Большевики с их богоборчеством прекрасно знали, что, зачеркивая что-то, надо дать новое. И они дали христианские догмы, убрав оттуда Господа. Я очень хорошо помню, что такие вещи, как совесть и честь, любовь к Родине и порядочность, воспитывались с первого класса. А в искусстве существовали художники, которые понимали убогость этой идеологии и пытались говорить с людьми, в том числе и о Боге, о вере, о том, что советская власть не самый лучший вариант управления государством. На этом фоне появлялись очень большие режиссеры: я считаю, что Юрий Любимов в этом качестве стал возможен именно при советской власти. Если бы его талант расцвел сейчас, он был бы другим режиссером. Великим Любимов стал, создав свой театральный эзопов язык.
А когда все стало возможно, оказалось, что говорить, по большому счету, не о чем. Это касается и телевидения, и театров, и кино, и средств массовой информации. Если включить любой федеральный телеканал, то там обязательно будет какая-нибудь чудовищная передача, где нет ничего, кроме низменных инстинктов, пошлых страстей, праздного любопытства и извращений. Вот почему я считаю, что нам необходима морально-этическая цензура.
— Есть ли у вас в жизни главный человек, друг и опора?
— У меня есть такой человек, мы с ним знакомы 30 лет. Это моя жена.
— Чего вы ждете от профессии?
— Я уже давно ничего от нее не жду. После ухода Захарова я не чувствую себя обязанным любимому театру «Ленком», который многие годы был моим домом. При этом не собираюсь покидать театр, бросать свои спектакли и уходить из актерства. Я не то чтобы разочаровался в профессии... Я существую в ней — но только потому, что должен это делать. Во время пандемии за семь месяцев я не сыграл ни одного спектакля, и никакого дискомфорта или душевного неудобства я от этого не испытывал. Я понял, что могу обходиться и без театра. Для меня гораздо важнее общаться с людьми, и я это делаю на своих концертах, выступлениях с музыкантами, где я говорю с людьми не как артист, а как человек.
— Чем вас радует и чем огорчает молодежь, ваши студенты в Институте современного искусства? Отличаются ли эти ребята от вас и ваших ровесников, когда вы были молодыми?
— Мне очень трудно об этом говорить, потому что я не помню, каким я был в те годы. Тогда я жил на иждивении родителей, но учился так, что получал стипендию. Родители наших студентов платят за обучение, но меня радуют те из них, кто работает так, как когда-то работал я. Те, кто пашет без оглядки, без ссылок на здоровье, отсутствие желания и что-то еще. Такие люди человечески, душевно созданы для нашей профессии. И это очень важно, потому что лодырь и разгильдяй, став успешным человеком, будет нести свое разгильдяйство со сцены. Есть вещи, относящиеся к человеческой душе, и зритель считывает их на тонком уровне.
Я всегда говорю ребятам, что были великие артисты, любимые народом, такие как Папанов, Леонов, Пельтцер, Миронов... Их не так много. А еще есть (их гораздо больше) популярные артисты. Отличие великих артистов от популярных состоит в том, как работала их душа, как и для чего они жили. И ключевой, самой важной вещью здесь является любовь. Это и любовь к миру, в котором они жили, и к своей профессии, и любовь к зрителям, для которых они работали. Что бы ни играли великие актеры, прежде всего они несли со сцены ЛЮБОВЬ! Именно так, большими буквами...
Об этом я и рассказываю нашим студентам. Это главное, что им надо нести в нашей профессии, если, конечно, они в ней состоятся.
А без ЛЮБВИ этим «талантам» цена — «пятачок за пучок» в базарный день.
Фотографии из спектакля "Лавр". Кирилл Зыков / АГН Москва.


