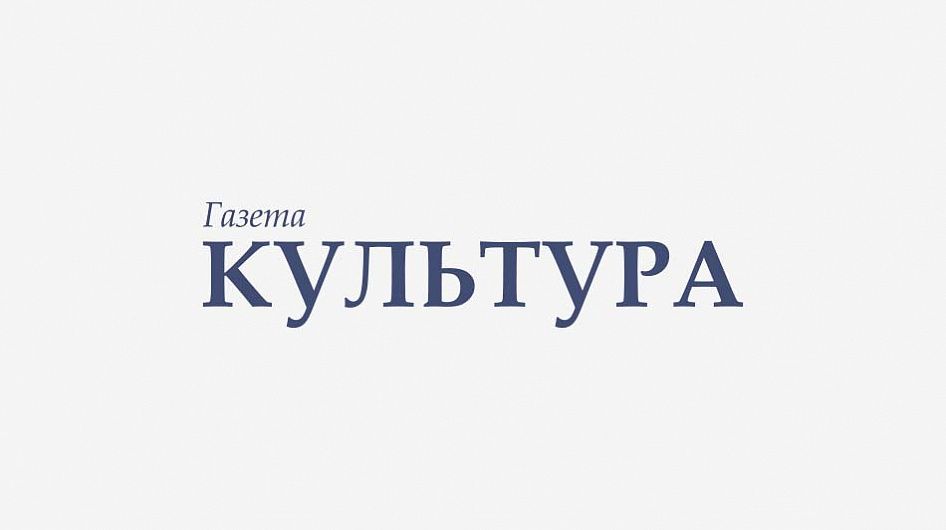
Андрей Кончаловский: «Пока люди читают, они будут ходить в театр»
Андрей Кончаловский представляет очередную сценическую работу — «Три сестры» в Театре имени Моссовета. В 2009-м здесь уже появился чеховский спектакль от Кончаловского — «Дядя Ваня». Еще пятью годами ранее была «Чайка», но сейчас ее с репертуара сняли, и сам постановщик предпочитает говорить о дилогии.
культура: Вы говорили, что театр сложнее, чем кино: здесь не спрятаться за монтажом и мизансценами. Как ощущаете себя перед премьерой?
Кончаловский: Театр — это всегда волнение, и не только перед премьерой, а вообще каждый раз, когда идет спектакль.
культура: Чехова ставят очень часто. Не устал ли текст, не надоело ли публике?
Кончаловский: Честно говоря, мне вообще все равно, как зритель относится к НЕ моим постановкам. Меня волнует, как он относится к моим. У Чехова, как и у Шекспира, — у по-настоящему великих драматургов — всегда своя музыка, и эту музыку каждый пытается услышать по-своему.
культура: Ваши спектакли по Чехову не отличаются традиционным прочтением. Вы действительно считаете, что музыка его пьес раскрывается не через русский психологический театр, а через фарс?
Кончаловский: Традиционное — не обязательно хорошее, а фарс не обязательно плох. Я думаю, что Чехов обладал изумительным чувством иронии и юмором. Он любил своих героев и подсмеивался над ними по-доброму. Никогда не издевался. Фарс — неправильное слово. Можно сказать, что здесь есть моменты эксцентрического плана. Но фарс — это карикатура. А у Чехова карикатур нет. Разве что в рассказах.
культура: И в «Дяде Ване», и в нынешнем спектакле задействован почти один и тот же состав: Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Павел Деревянко, Ирина Карташева. Почему Вы не меняете актеров?
Кончаловский: Я хотел бы сделать с этими же актерами как можно больше пьес Чехова в тех же декорациях. Так мне хочется. Когда у дирижера есть оркестр, он не заменяет его, готовясь играть другую музыку.
культура: Себя Вы ассоциируете с кем-то из чеховских персонажей?
Кончаловский: Конечно! Чехов — мой духовный цензор — это факт. Из персонажей мне ближе всего профессор из «Cкучной истории» и Тригорин.
культура: По Вашим словам, «Дядя Ваня» и «Чайка» — истории о бездарных людях, которые мнят себя талантливыми и выдающимися. А «Три сестры» о чем?
Кончаловский: Я думаю, о том же. Это, конечно, самая сложная его пьеса, симфоническая, в ней больше всего персонажей. Трудная, но этим она и увлекательна. В ней много возможностей.
культура: Как Вы относитесь к постмодернистским прочтениям классики?
Кончаловский: Я считаю, что постмодернизм наносит смертельные удары не только по театру, но по искусству вообще: музыке, живописи, да и по жизни. Он и сам-то мертвец, потому что он не волнует. Это стимулятор вроде порнографии. Постмодернизм шокирует, а искусство должно волновать.
культура: Ваши младшие дети с Чеховым, наверное, еще не знакомы?
Кончаловский: Почему? Они всегда смотрят мои спектакли. Ну, Пете, конечно, в его восемь лет тяжело просидеть четыре часа. Правда, оперу «Борис Годунов» он посмотрел с интересом. «Трех сестер» я ему еще не показывал. Вот приедет из Лондона — обязательно свожу. Я думаю, все, что волнует хоть в какой-то степени, доступно и ребенку. Какие-то вещи ему будут непонятны, а какие-то интересны. Хороший спектакль можно смотреть даже не понимая, на каком языке он играется.
культура: Как Вы своих детей воспитываете?
Кончаловский: Воспитывать при таком обилии медиа сложно. Я своих детей воспитываю без интернета и, особенно, без компьютерных игр. Иначе они не приучатся читать.
культура: А что они читают?
Кончаловский: Марусе тринадцать, она уже читает «Роковые яйца» и такого рода вещи. А Петя читает много по-английски, по-французски.
культура: Что Вы думаете по поводу активного реформирования московских театров? Уходит ли репертуарный театр?
Кончаловский: Репертуарный театр будет существовать до тех пор, пока для него есть зритель. Думаю, что репертуарный театр высокого класса будет жить, и тому доказательство — Художественный, Малый, театр Моссовета, МДТ Додина. Они несут в себе какую-то марку, символ. И люди туда ходят.
культура: И долго люди будут ходить в театр?
Кончаловский: Да. Надеюсь, по крайней мере, лет 15. Потому что в Москве, в России люди еще читают. Как только читающее поколение ослепнет и оглохнет, театру придет конец. Он будет заменен «Цирком дю Солей».
культура: Вы активно выступаете как публицист. Из желания что-то изменить?
Кончаловский: Я не верю, что смогу что-то изменить. Но идеи, которые меня волнуют, я должен озвучить, чтобы те, у кого есть уши, услышали. Вот и все.
культура: Что имеет силу менять общество: культура как институт, политика?
Кончаловский: Я не верю, что красота спасет мир, я думаю, что мир спасет страх смерти. Но он пока еще не пришел. Как только возникнет страх смерти государства и нации, тогда проснется политическая воля, которая должна что-то менять.


