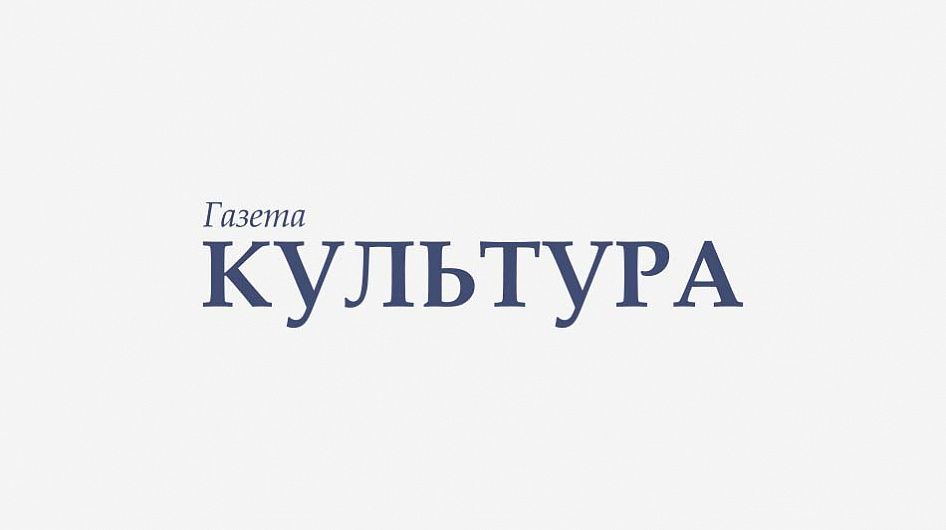
Жди меня
«Жди меня, и я вернусь. / Только очень жди. / Жди, когда наводят грусть / Желтые дожди...»
— А почему «желтые»?
Главред «Правды» Петр Николаевич Поспелов расхаживал взад-вперед по выстуженному кабинету, засунув руки в карманы бессменного синего ватника. Шел январь 1942-го. Собкора «Красной звезды» он встретил в коридоре (газеты располагались в одном здании) и зазвал на чашку чая. Только что вернувшийся из Феодосии Симонов, а там шли бои за Крым, рассчитывал говорить о чем угодно, но только не о любовной лирике...
— Не знаю, почему «желтые». Наверное, я хотел выразить этим словом свою тоску.
Очень личные, написанные для любимой женщины строки — посвящено «В. С.» — не представлялись военкору актуальным материалом для публикации. Особенно в главной газете страны. Поспелов еще немного походил из стороны в сторону, набрал Ярославского. Закутанный в шубу седоусый Емельян Михайлович развеял «метеорологические» сомнения — дожди бывают разного цвета. Смотря какая почва... Через несколько дней «Жди меня» опубликовали на третьей полосе «Правды».
Молитвенное, суггестивное, простое и пронзительное стихотворение произвело фугасный эффект. Самые разные люди учили его наизусть, при свете коптилки или ручного фонарика строки записывали на клочках бумаги. В 43-м на Алма-атинской киностудии вышел одноименный фильм с Валентиной Серовой. Все, от простых солдат до генералов, обращались в письмах к женам и невестам симоновскими словами. Геннадий Шпаликов вспоминал, как однажды в одной из пивных, куда иногда заходили ребята из госпиталя — в байковых халатах, на костылях, — появился мальчишка в ватнике и огромных солдатских ботинках. Принялся декламировать: «Жди, когда снега метут, / Жди, когда жара» и вдруг, не дочитав грустных строк, перешел на лихую чечетку. «У стихотворения нет никакой особой истории, — годы спустя отнекивался Константин Михайлович. — Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах». И добавлял — стихотворение все равно бы написали. Не он, так кто-нибудь другой.
...Начало января 42-го. Феодосия. Выездная редакция газеты «На штурм» 44-й армии. Поздний вечер. Симонов появляется в теплушке внезапно, в мокрых валенках и комбинезоне. Присоединяется к ужину. На столе консервы. Бутылка рислинга «Абрау-Дюрсо». Ближе к одиннадцати по просьбам коллег начинает читать тогда еще известные лишь в кулуарах строки...
«Прошибли они нас до слез, — вспоминал редактор армейской газеты Юрий Кокорев. — И это было не от хмеля, а от войны, от печали потери Геннадия Золотцева — 23-летнего москвича, который погиб, не отлюбив, это было от разлук, оттого, что все мы тосковали по нежности...»
События следующего дня описывал Симонов. «Девчата, узнав о гибели того парня в Феодосии, очень расстроились <...>, зайдя в их комнату, я застал обеих плачущими. Одна скоро успокоилась, а другая все еще ходила со вспухшими от слез глазами. Когда плакавшая девушка ушла, я потихоньку спросил у другой, в чем дело. И она, задыхаясь от волнения, рассказала мне печальную историю — вот эта девушка, которая так плачет, и тот парень, которого убили, они любили друг друга и хотели пожениться. <...> Я, конечно, посочувствовал и, увидев редактора, упрекнул его: зачем же ей так, без подготовки? — «Какая девушка? Кто рыдает?» — недоумевал редактор. Я рассказал. — «Все неправда, — сказал он. — Они почти не знали друг друга. Он был очень хороший парень, ну, может быть, нравился ей немного, ничего больше. Им грустно, вот они и нафантазировали». Я <...> представил себе, что девушкам <...>, все-таки очень тяжело на войне <...>. Им и, правда, было очень жаль того парня, но, кроме того, хотелось придумать вот такую романтическую историю. Это было им душевно необходимо, и история родилась».
Образ оставшейся в тылу женщины, преданной, не находящей себе места в ожидании любимого, был «душевно необходимой» выдумкой и для самого поэта. Блистательная Валентина Серова по-прежнему оставалась музой, призрачной мечтой. «Ты говорила мне «люблю», / Но это по ночам, сквозь зубы. / А утром горькое «терплю» / Едва удерживали губы». Эти строки вышли в том же 42-м, в сборнике «С тобой и без тебя». Горькие слова, наверное, даже более убедительны, чем молва о романах кинодивы, последующий несчастливый брак, тяжелый развод с полным разрывом отношений...
Современники отмечали, что в зрелые годы Симонов не любил читать «Жди меня». «Серел лицом» при одном только упоминании шедевра. Поговаривали, что виной тому адресат. Но поэта беспокоило и противоречие другого рода. Он получал сотни писем — от тех, к кому вернулись. И тех, к кому не вернулись. Одно из таких посланий Константин Михайлович процитировал в воспоминаниях:
«В декабре 1943 года я получила письмо, написанное мужем. Это было последнее письмо. Прошли декабрь, январь и почти весь февраль. Я ежедневно многократно заглядывала в почтовый ящик и шептала, как молитву: «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло...» и добавляла: «Да, родной, я буду ждать, я умею». <...> Мне и сейчас, на старости лет, часто снится, что он вернулся после длительной разлуки. <...> Вот я и хочу вас попросить от имени всех тех, кто «ждал, как никто другой», но, увы... не дождался. Реабилитируйте нас <...>, а то ведь последние восемь строк вашего стихотворения звучат для нас, не дождавшихся, как укор...» Но что я могу сейчас написать в ответ? И о каких оправданиях может идти речь? Беспощадная мясорубка войны делала свое дело, не желая разбираться в человеческих судьбах. И вышло так, что я, написавший эти стихи, я, кого ждали, быть может, с куда меньшей силой и верой, чем других, вернулся, а те, другие, не вернулись. <...> Какие стихи писать вдогонку к тем, которые я продолжаю читать и с чувством невольной вины, и с сознанием неразрешимости этого противоречия...»


