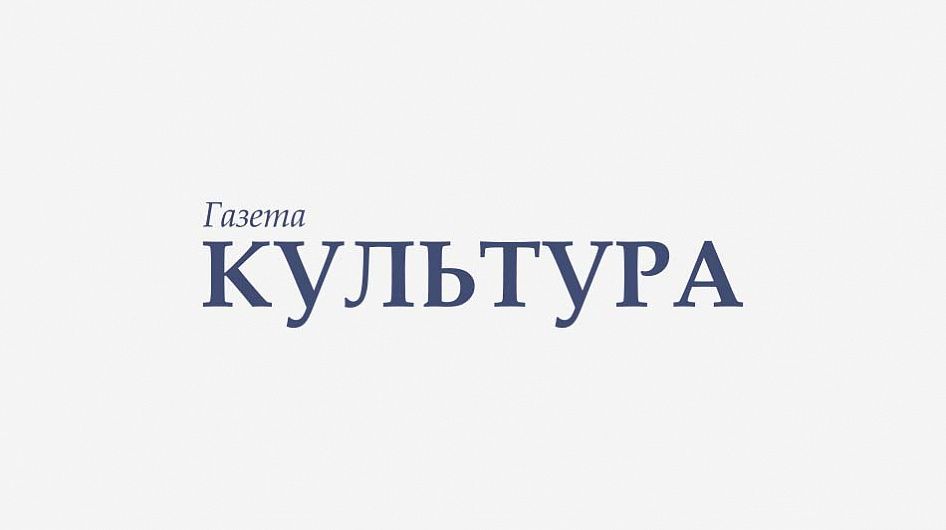
Уезжать не надо, Лада
В Нью-Йорке умер певец Вадим Мулерман. Хоронить его, говорят, повезут в родной Харьков. Если продвинутая молодежь редко, но знает, кто такой, скажем, Иосиф Кобзон, то насчет Мулермана — сомневаюсь. Проверял: не в курсе, кто такие Валерий Ободзинский, Лариса Мондрус, Эмиль Горовец, Нина Бродская.
Об этих людях нужно спросить у нас, советских юношей и девушек конца шестидесятых — начала семидесятых. В те странные годы, когда сплетались The Beatles и съезд КПСС, «Золото Маккены» и «Голубой огонек», «Кабачок «13 стульев» и зачитанные страницы «Доктора Живаго», было несколько исполнителей, которые своими песнями попадали прямо в сердце. Иногда накрывало весь народ. Иногда — танцплощадки. Иногда — меня лично.
Мулерман минимум дважды накрыл страну — «Ладой» и «Королем». «Хмуриться на надо, Лада» и «Тырьям-тырьярим там-тырьям» играли из каждого добропорядочного утюга. Понимаю, что Сергей Лапин, легендарный председатель Гостелерадио, строго следивший, чтобы еврейские мастера культуры не заполонили наш экран и эфир, обладал серьезной властью. Но ему и не снилась волшебная сила Мулермана!
Однажды тот спел: «Нам столетья не преграда, и хочу я, чтоб опять позабытым словом Лада всех любимых стали звать». Мулерман сказал «Надо!», молодежь ответила «Есть!»: количество Лад в том поколении (а имя ведь было совершенно не в ходу) зашкалило. Поддались общему помешательству не только в роддомах, так назвали народный автомобиль (правда, в экспортном варианте, потому что демократическому немцу или кубинцу выговорить «Жигули» было не просто).
Похожим воздействием обладал Ободзинский. Его «Восточную песню» я записал на прибалтийский магнитофон «Миния» и слушал как зачарованный. Сначала напрягала странная рифма: «по ночам в тиши я пишу стихи», но потом я смирился. А Горовец, открывший нам евроэстраду переводами бесчисленных «Марин» и «Катарин»? «Катарина, охо-хо, ты пришла танцевать, но не в силах стоять совсем»? Спокойно, девочка не была пьяна: желая казаться взрослей, пришла на танцульки в маминых «шпильках». Всё это были хорошие голоса, консерваторские навыки, бесконечные концерты, гигантские тиражи пластинок и всенародная приязнь.
Но вот беда: этим инженерам человеческих душ всегда чего-то не хватало. Иосиф Кобзон понимал, что СССР — гигантская цивилизация. Со своими законами. В первом отделении надо петь «Не расстанусь с комсомолом». Некоторые вообще умудрялись на века «обязаловку» записать — до сих пор слышна «Беловежская пуща», к примеру. А дальше — что угодно. Любую «Катарину». «Глаза напротив». Любого «Короля». Только без антисоветчины!
Но, во‑первых, другой мир существовал. Он был велик и притягателен. В нем гремел слепой певец Хосе Фелисиано — а ты просто перепевал его: тогда полагалось, чтоб песни звучали на русском языке даже в кинофильмах. Так родился странный замес «Золото манит нас» Ободзинского (у которого отдельная несладкая судьба — нечто вроде «внутренней эмиграции», алкоголь, сторож на галстучной фабрике) из популярного американского вестерна. Вот там, в большом мире, — большой успех. Деньги! Свобода! Мы ж не слепые: там нет Лапиных, определявших, сколько евреев должно развлекать народ — строитель коммунизма — на один квадратный метр «Голубого огонька».
В общем, они почти все уехали. Сначала в Израиль — в семидесятых грянула «разрядка», стали «выпускать». Потом в Америку, в Германию. Только ли золото сманило их? Не без этого. Одно известно: никто не получил там славы и успеха, равных тем, что были в СССР. Они жили в квартирах — кто в хороших, а кто и в плохих, пели при синагогах, переводили свои хиты на иврит и идиш, удачно сочетались браком, спивались, открывали рестораны «Балалайка», бедовали, возвращались в новую Россию. Иногда чтобы заработать. Иногда — ностальгировать, рассказывать на новом телевидении про страшного Лапина — и встречали в эфире все того же Кобзона, который, обаятельно улыбаясь, говорил Мулерману в их удивительном совместном эфире: «Вадик, ну кто тебя выгонял и запрещал? Я еврей и ты еврей. Меня ж не запретили!»
У Мулермана меня всегда особенно трогала песня «Детство». Сначала электроорган: тюрли, тюрли. Потом как грянет своим баритоном, чуточку южнорусским: «А я кричу: «Не надо, подожди!», а я зову — меня уже не слышно… и снова где-то мутные дожди поют о чем-то на холодных крышах…» Тогда, помню, напрягали «мутные дожди».
Но потом я смирился.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции


