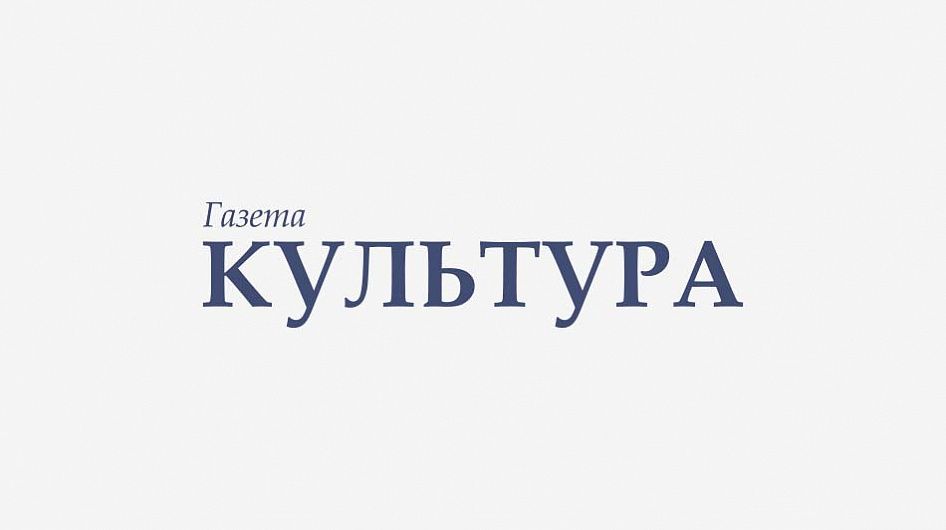
Актер Виктор Сухоруков: «Я сквозь нищету, сквозь насмешки шел к мечте»
Как Виктор Сухоруков победил судьбу и заслужил бронзовый памятник
Виктор Сухоруков — знаменитый киноартист, прекрасный театральный актер и интересный человек. Кинозрители знают его по фильмам Мамина, Рогожкина, Балабанова, Лунгина, Кончаловского, ему аплодирует публика Театра Моссовета и Театра Вахтангова. На экране и сцене он ни на кого не похож. Сухоруков необыкновенно точно играет русское чудачество, русскую странность, русское существование вне границ и берегов — человека, от которого можно ждать все, что угодно, как хорошее, так и плохое. Мы долго договаривались об интервью, оно состоялось в начале второй волны коронавируса. Тональность, в которой пошел наш разговор, сильно отличалась от жутковатой атмосферы входящей в эпидемию ковида Москвы.
— ...Настроение у меня прекрасное, самочувствие отличное, прививку против гриппа я сделал в автобусе на площади Белорусского вокзала. Осень эта очень для меня любопытная! Весь коронавирус я просидел на даче под Орехово-Зуевом и превратил наши с сестрой 12 соток в садовом товариществе в дизайнерскую территорию. Сам, без посторонней помощи, ни одного таджика на нашей земле не было! Недавно закончились очередные съемки...
— Что за фильм, что за роль, Виктор Иванович?
— Я снимался у режиссера Алексея Андрианова в многосерийном фильме «Грозный», который телеканал «Россия 1» покажет осенью. В фильме был занят Александр Яценко, сыгравший молодого Ивана Грозного, а повзрослевшего царя играл Сергей Маковецкий. Я стал частью уникальной, замечательной актерской компании. Сказать о ней «созвездие» — ничего не сказать. У меня давно такого прекрасного душевного состояния не было после съемок.
Атмосфера на съемочной площадке была по-настоящему творческой. Я сыграл Малюту Скуратова и получил от этой работы такое удовольствие, что нарушу свое обыкновение. Когда организуют «шапку», прощальное мероприятие, и весь творческий коллектив соберется, чтобы, в простоте говоря, «обмыть» завершение работы, я тоже приду в этот ресторан, что-нибудь съем и выпью чаю. Я с легким сердцем жду выхода этой картины, потому что она, как мне кажется, красива, сочинена филигранно и исторически ладно, сюжетно богата, очень познавательна.
Я продолжаю сниматься. У меня роль в большом фильме кинокомпании «ТРИТЭ» о чемпионате мира по шахматам между Карповым и Корчным в 1978-м. Там я играю Батуринского, начальника советской шахматной федерации и руководителя нашей команды. Фильм снимает режиссер Алексей Сидоров — он очень тщательно, почти мучительно сочиняет свою работу, подробно, профессионально подходит не только к графике эпизодов, но и к нюансам, деталям, мелочам.
Алексей недавно подошел ко мне во время ночной съемки, сказал: «поспокойнее», — и я не мог понять, что это значит. А он произнес всего одно слово: о моей роли, в моей собственной интонации... И я понял, что не надо «красить», что-то в нее привносить. Вместо этого надо вычистить всю игровую шелуху. Понимаете, как интересно?
Это чисто профессиональный разговор: когда в ресторане приносят красивое блюдо, мало кто задается вопросом, как его готовили. А мы с вами сейчас говорим о том, как готовятся наши актерские истории.
— Как начал новый, «коронавирусный» сезон Театр Моссовета?
— В театре мы приступили к работе, выполняя все предложения (или просьбы) Роспотребнадзора. Оделись в маски и перчатки, кто-то против этого бунтует, другие относятся спокойно.
Я сталкиваюсь с разным отношением к маскам, а сам считаю, что их обязательно надо носить — хотя бы из уважения друг к другу. А то я захожу в магазин и вижу: стоит молодой человек и ругается.
— Я не хочу надевать маску, вы не имеете права!..
— Дурак! — говорю про себя. — Ну что ты споришь о ерунде? Тебе же не штаны снять предлагают, а масочку надеть. Ну, надень ты масочку, что ты из этого раздуваешь проблему мировую, которых и без того много?
От этих вещей становится неловко: грамотный современный человек шумит из-за такой малости, как маска и перчатки.
— Премьеры в театре у вас будут?
— Юрий Иванович Еремин, в чьих спектаклях «Царь Федор Иоаннович» и «Преступление и наказание» я играл Федора Иоанновича и Порфирия Петровича — спасибо ему за эти подарки! — предложил мне новую роль. Он поставит пьесу Горького «Старик», и я там сыграю Старика, странника Питирима. Сейчас Юрий Иванович пишет инсценировку по этой пьесе, идет литературная работа, обрабатывается материал. Приказ с распределением ролей в театре висит. А я уже тетрадочку завел, фиксирую в ней какие-то свои идейки, чтобы не растерять их по дороге к спектаклю.
— Что из вашего прошлого, из личных впечатлений вы привнесли в роль Малюты? Мне кажется, здесь надо говорить о вашей молодости, об Орехово-Зуеве, 101-м километре, опасной городской среде. Все ваши замечательные криминальные и полукриминальные типы, люди, которые ходят по грани, по-моему, оттуда. Эти ингредиенты часто идут в ваши актерские блюда.
— Во всех наших поступках заложено прошлое, орехово-зуевский парень наверняка отзывается в том, что я делаю. Но я-то об этом не задумываюсь и живу сегодняшним днем, сиюминутной задачей. И все же прожитое оставляет свои зарубки, пометки, и они влияют на мою фантазию.
Мой Скуратов мне дорог. Он остался в истории как людоед и зверь, но его мать родила милое дитя, а не чудовище. Всегда важно понять: когда невообразимое количество лет назад Серегу, человека из моего орехово-зуевского детства, судили за поножовщину, и проходивший в бараке народный суд приговорил его к шести годам, бабы выли, мужики рычали... А я, мальчишка, думал — почему так много лет-то дали? Ведь Серега не злодей, а хороший парень, и сделал он это спьяну, по глупости.
Когда я взялся за роль Малюты, то сказал режиссеру (и он со мной согласился): «Ну что мы будем зверя из него делать? Мне хочется найти объяснение тому, почему он так себя вел, когда царь его приблизил...»
А потом я понял: все дело в службе. Это не садизм, не желание попробовать человечинки, а служение государю, как богу. Можно рассуждать, прав он или не прав, но главное для меня в Скуратове — служение царю, власти и своей земле.
— А с Серегой что сталось?
— Он сгинул по тюрьмам. Вот стишок, я сочинил его, еще живя в Петербурге, и назвал «Рецидивист Серега»:
Живот пережрал, видно, водки,
Износилась душа,
Воплем рвется из глотки.
Поразвесились нервы
на зонных заборах.
Жизни не было, нет,
один пепельный ворох.
Оскалился, рявкнул, истошно,
невнятно,
И прыгнул с моста. Ушел...
Все понятно.
...Мужик он был классный, человек замечательный. У него был друг, они повздорили, Серега пырнул его ножом. И посыпалась жизнь, разлетелась на осколки, собрать их он не смог... А я, вспоминая этот случай, всегда жалел его и пытался объяснить себе, почему он это сделал.
— Виктор Иванович, разговор об интервью мы ведем довольно давно. Если помните, мы собирались привязать его к юбилею замечательного фильма Юрия Мамина «Бакенбарды» — в минувшем августе исполнилось 30 лет с тех пор, как он вышел. Я тогда был совсем юн, но помню свое ощущение от вас — какой талантливый и странный молодой парень! А вы как-то вспоминали, как Остальский, ваш мастер в ГИТИСе, через много лет после выпуска сказал вам: «Молодец, ты пробился, всегда знал, что это талант, а не странность». И на курс он вас принял с формулировкой — «либо ненормальный, либо гениальный»...
— Да, он так и сказал! Его пытались убедить, что не надо меня брать: «Зачем? Что он будет делать?» А он на это ответил во время третьего тура конкурса по мастерству: «Мы отыщем ему применение. Он еще найдет себя». Пройдут годы, в 2003 году я его приглашу на премьеру фильма «Бедный, бедный Павел». Мы обнялись, и он сказал: «Теперь ты стал мастером!» Я видел, как он мною гордился, как был счастлив оттого, что тогда рискнул и не ошибся. И я ему буду по гроб жизни благодарен.
Всеволод Порфирьевич — мой родитель в профессии, второй отец. Мать с отцом меня в жизнь отправили, а Остальский-то отправил в судьбу.
— В суровую жизнь они вас отправили. У вас была тяжелая молодость, а у ваших родителей — непростые судьбы.
— Молодость тяжелой быть не может! Она может быть спокойной, пустой, яростной, агрессивной, сексуальной, взбалмошной, странной, умиротворенной... Молодость должна быть разной, но я понимаю, куда вы клоните. Я не могу назвать свою молодость тяжелой, но то, что она была разнообразной, яростной и бесстрашной, совершенно точно. И все же, при всем моем бунтарском, пофигистском поведении в молодости — по собраниям я не любил ходить, портвейн пил — я всегда был дисциплинирован, да таким и остался.
А мои родители другой жизни, кроме непростой, не знали, поэтому для них она была нормальной. Покажи им, помимо Орехово-Зуева, что-то другое, может, они и жили бы по-другому, и думали не так. В африканской пустыне люди живут, не зная, что есть океаны, реки, снег, — и им нормально. Другой жизни они не ведают.
Говорят, что в те давние годы, во время молодости моих родителей, мы плохо жили. Но для нас это не было плохо — мы просто жили, и другой жизни у нас не было. Смута в умах начинается, когда люди усматривают что-то другое. Им кажется, что там рай, а здесь беда. Но это же заблуждение! Там тоже жизнь со своими проблемами и червоточинами...
Много повидав, познав и приобретя, я вспоминаю прошлое, жизнь родителей чуть ли не со слезами. Боже мой, как они прожили свой век! Темно, неграмотно, голодно, не по-человечески несправедливо. Ничего не увидев, не попробовав, не погуляв, не порадовавшись. А что делать? Это их жизнь . Они и пили, и гуляли, и плясали, и — радовались... Только качество всего этого было другим. Краски судьбы отличались.
— Не могу представить, что ваша мама, живя в Орехово-Зуеве, за всю свою жизнь ни разу не побывала в Москве.
— Никогда она там не была.
— Сядь на электричку и поезжай, в чем проблема?
— Вам легко говорить. Расскажу про себя — когда я возмечтал быть актером, то почему рвался поступать в Москву? Потому что близко было. Думал, «зайцем» кинусь в электричку и как-то доеду. Двадцати пяти копеек не было! Ну не было. Вот как вам это объяснить? Приходилось ехать «зайцем». А у матери украдешь 20 копеек, чтобы хотя бы пирожок съесть и на метро пять копеек осталось.
Я тогда думал: уж если в Москве не поступлю, то до Ярославля и города Горький, сегодняшнего Нижнего Новгорода, никогда не доеду. Почему? Билет десять рублей стоил! Да у меня таких денег никогда не было и не будет.
— Там тоже были театральные вузы?
— Там были очень хорошие средние специальные театральные училища. Шикарные были училища, они очень котировались. Но мне туда было не добраться.
Поэтому я не удивляюсь, что мать не доехала до Москвы. И таких, как она, в Орехово-Зуеве было много.
Армия женщин, красивых и не очень, грудастых и без этого, шла работать на фабрики — с девяти утра до трех дня, с трех до 11 вечера, с 11 вечера до шести утра. В три смены город гудел фабриками! Бабы там работали по восемь часов с 20-минутным перерывом. А потом женщины выныривали из горнила этого хлопчатобумажного производства. Прически в пуху, они уставшие, полуглухие от грохота станков, громко разговаривающие. Но женщины шли по домам и уже думали о другом. Надо обед сготовить, надо своему мужику сделать подарок... И так далее.
И вы говорите, что это тяжелая, трудная жизнь? Да нет — это просто жизнь, и другой жизни тогда не было. А сегодня я наблюдаю, как молодые люди, одетые, обутые, обласканные всеми прелестями судьбы, говорят: «Мы плохо живем, власть у нас отняла молодость». И я задаю вопрос — а чего ты хочешь? Каков твой земной замысел? Вот я мечтал стать актером — и подчинил этой мечте даже унижение себя.
— Какое унижение?
— Смеялись надо мной: «Ну какой ты артист? Лопоухий, с редкими зубами, конопатый». Я поступал в Школу-студию МХАТ в 1970-м, и ничего не было актерского во мне в понимании того времени. Я сквозь нищету, сквозь насмешки шел к мечте. Когда мне в Школе-студии МХАТ набиравший курс Виктор Монюков сказал: «Вы никогда не будете артистом!» — и не принял меня, я прошел и через это.
Вот и все.
— Да, вы же были вне востребованных во время вашей молодости актерских типажей... То, что вы сделали себя в профессии, было подвигом.
— Это не просто подвиг, это чудо было.
И роль в «Бакенбардах» у меня ведь появилась в 1989 году. Посчитайте, сколько мне тогда было лет — я ведь уже был не юн, в тридцать-то восемь. Тогда мне впервые предложили главную роль — и то случайно. Дима Певцов был занят у Панфилова, Сергей Колтаков закапризничал, царство ему небесное. И вдруг второй режиссер фильма Володя Студенников обратил внимание Юрия Мамина на мою персону— и покатилось-понеслось. Если бы не «Бакенбарды», я бы не встретился с Балабановым, не сыграл в «Брате» и «Брате-2». А если бы не Мамин и не Балабанов, на меня, наверное, никто не обратил бы внимания. Это внимание, этот успех помогли мне спастись и стать тем, кем я сегодня являюсь.
— До 38 лет в вашей жизни было очень многое. Вы не по собственной воле уходили из театра, работали грузчиком, спали на мешках. И — вдогонку к словам Остальского о таланте и странности — за это время прошли жизненный путь, который, возможно, помогает вам так хорошо чувствовать героев Достоевского. Вы прожили то же, что и многие из них, — к примеру, Раскольников, с которым вел диалог ваш замечательный Порфирий Петрович. Вы упали, а потом победили себя, поднялись — и стали другим.
— Вспоминая об этом, я думаю: Господи, неужели это было? Ведь оттуда не возвращаются! А когда я гляжусь в зеркало — это не шизофрения, а специфика профессии, предполагающей повышенное внимание к себе, — мне иногда кажется, что я реинкарнировался, переродился. Лицо вроде то же, только морщинки прибавились, но это года. Взгляд усталый, более суровый — какая-то изношенность во внешнем виде... Но мне кажется, что я стал другим существом — с иным вкусом, отношением к поведению других людей, иным пониманием любви, смерти, общечеловеческих ценностей. С другим пониманием алкоголя, а, стало быть, порока. Болезнь, беда — это результат пьянства, а причина этого порок. Пьяный человек находится в порочном состоянии. Он считает, что ему хорошо, но это только иллюзия.
Я изменился категорическим образом, развернулся на 360 градусов. Как это случилось — не знаю. Потому что я того мистического кабинета не смог увидеть, не распознал меняющего людей волшебного приемного покоя, куда меня ввели, вывернули наизнанку, почистили, подраили, поколотили и выкинули обратно в жизнь. Я живу сегодня другой, хотя фамилия, имя, отчество у меня те же самые. И я рад и счастлив. И не боюсь смерти.
Со мной разговаривали и врачи, и исследователи этой проблемы. Они хотели понять, что я делал, когда... Слово «бросил» слишком мелкое для освобождения от алкоголизма. Это более глубокая, тяжелейшая история. Они пытались через меня распознать феномен. Но это действительно чудо. Уже 21 год, как я не пью. И я об этом не думаю.
И сегодня я трижды счастливее тех, кто когда-то поднимал брови и посмеивался, глядя на меня, потому что мои победы для них недосягаемы. Помню, как в 1974-м, после экзаменов в ГИТИС, охнула мама одного из абитуриентов: «Господи, мир перевернулся! Мой мальчик играет на гитаре, знает французский, он из интеллигентной семьи — и его не приняли! А какой-то лопоухий из казармы вдруг поступил...»
А ведь действительно, тут не то что справедливости, но и простейшей логики нет: из какого-то гадкого барака, из фабричной массы вдруг выходит Сухоруков Витя и становится народным артистом.
И ему ставят бронзовый памятник в его родном Орехово-Зуеве, на центральной улице Ленина.
— ...Настроение у меня прекрасное, самочувствие отличное, прививку против гриппа я сделал в автобусе на площади Белорусского вокзала. Осень эта очень для меня любопытная! Весь коронавирус я просидел на даче под Орехово-Зуевом и превратил наши с сестрой 12 соток в садовом товариществе в дизайнерскую территорию. Сам, без посторонней помощи, ни одного таджика на нашей земле не было! Недавно закончились очередные съемки...
— Что за фильм, что за роль, Виктор Иванович?
— Я снимался у режиссера Алексея Андрианова в многосерийном фильме «Грозный», который телеканал «Россия 1» покажет осенью. В фильме был занят Александр Яценко, сыгравший молодого Ивана Грозного, а повзрослевшего царя играл Сергей Маковецкий. Я стал частью уникальной, замечательной актерской компании. Сказать о ней «созвездие» — ничего не сказать. У меня давно такого прекрасного душевного состояния не было после съемок.
Атмосфера на съемочной площадке была по-настоящему творческой. Я сыграл Малюту Скуратова и получил от этой работы такое удовольствие, что нарушу свое обыкновение. Когда организуют «шапку», прощальное мероприятие, и весь творческий коллектив соберется, чтобы, в простоте говоря, «обмыть» завершение работы, я тоже приду в этот ресторан, что-нибудь съем и выпью чаю. Я с легким сердцем жду выхода этой картины, потому что она, как мне кажется, красива, сочинена филигранно и исторически ладно, сюжетно богата, очень познавательна.
Я продолжаю сниматься. У меня роль в большом фильме кинокомпании «ТРИТЭ» о чемпионате мира по шахматам между Карповым и Корчным в 1978-м. Там я играю Батуринского, начальника советской шахматной федерации и руководителя нашей команды. Фильм снимает режиссер Алексей Сидоров — он очень тщательно, почти мучительно сочиняет свою работу, подробно, профессионально подходит не только к графике эпизодов, но и к нюансам, деталям, мелочам.
Алексей недавно подошел ко мне во время ночной съемки, сказал: «поспокойнее», — и я не мог понять, что это значит. А он произнес всего одно слово: о моей роли, в моей собственной интонации... И я понял, что не надо «красить», что-то в нее привносить. Вместо этого надо вычистить всю игровую шелуху. Понимаете, как интересно?
Это чисто профессиональный разговор: когда в ресторане приносят красивое блюдо, мало кто задается вопросом, как его готовили. А мы с вами сейчас говорим о том, как готовятся наши актерские истории.
— Как начал новый, «коронавирусный» сезон Театр Моссовета?
— В театре мы приступили к работе, выполняя все предложения (или просьбы) Роспотребнадзора. Оделись в маски и перчатки, кто-то против этого бунтует, другие относятся спокойно.
Я сталкиваюсь с разным отношением к маскам, а сам считаю, что их обязательно надо носить — хотя бы из уважения друг к другу. А то я захожу в магазин и вижу: стоит молодой человек и ругается.
— Я не хочу надевать маску, вы не имеете права!..
— Дурак! — говорю про себя. — Ну что ты споришь о ерунде? Тебе же не штаны снять предлагают, а масочку надеть. Ну, надень ты масочку, что ты из этого раздуваешь проблему мировую, которых и без того много?
От этих вещей становится неловко: грамотный современный человек шумит из-за такой малости, как маска и перчатки.
— Премьеры в театре у вас будут?
— Юрий Иванович Еремин, в чьих спектаклях «Царь Федор Иоаннович» и «Преступление и наказание» я играл Федора Иоанновича и Порфирия Петровича — спасибо ему за эти подарки! — предложил мне новую роль. Он поставит пьесу Горького «Старик», и я там сыграю Старика, странника Питирима. Сейчас Юрий Иванович пишет инсценировку по этой пьесе, идет литературная работа, обрабатывается материал. Приказ с распределением ролей в театре висит. А я уже тетрадочку завел, фиксирую в ней какие-то свои идейки, чтобы не растерять их по дороге к спектаклю.
— Что из вашего прошлого, из личных впечатлений вы привнесли в роль Малюты? Мне кажется, здесь надо говорить о вашей молодости, об Орехово-Зуеве, 101-м километре, опасной городской среде. Все ваши замечательные криминальные и полукриминальные типы, люди, которые ходят по грани, по-моему, оттуда. Эти ингредиенты часто идут в ваши актерские блюда.
— Во всех наших поступках заложено прошлое, орехово-зуевский парень наверняка отзывается в том, что я делаю. Но я-то об этом не задумываюсь и живу сегодняшним днем, сиюминутной задачей. И все же прожитое оставляет свои зарубки, пометки, и они влияют на мою фантазию.
Мой Скуратов мне дорог. Он остался в истории как людоед и зверь, но его мать родила милое дитя, а не чудовище. Всегда важно понять: когда невообразимое количество лет назад Серегу, человека из моего орехово-зуевского детства, судили за поножовщину, и проходивший в бараке народный суд приговорил его к шести годам, бабы выли, мужики рычали... А я, мальчишка, думал — почему так много лет-то дали? Ведь Серега не злодей, а хороший парень, и сделал он это спьяну, по глупости.
Когда я взялся за роль Малюты, то сказал режиссеру (и он со мной согласился): «Ну что мы будем зверя из него делать? Мне хочется найти объяснение тому, почему он так себя вел, когда царь его приблизил...»
А потом я понял: все дело в службе. Это не садизм, не желание попробовать человечинки, а служение государю, как богу. Можно рассуждать, прав он или не прав, но главное для меня в Скуратове — служение царю, власти и своей земле.
— А с Серегой что сталось?
— Он сгинул по тюрьмам. Вот стишок, я сочинил его, еще живя в Петербурге, и назвал «Рецидивист Серега»:
Живот пережрал, видно, водки,
Износилась душа,
Воплем рвется из глотки.
Поразвесились нервы
на зонных заборах.
Жизни не было, нет,
один пепельный ворох.
Оскалился, рявкнул, истошно,
невнятно,
И прыгнул с моста. Ушел...
Все понятно.
...Мужик он был классный, человек замечательный. У него был друг, они повздорили, Серега пырнул его ножом. И посыпалась жизнь, разлетелась на осколки, собрать их он не смог... А я, вспоминая этот случай, всегда жалел его и пытался объяснить себе, почему он это сделал.
— Виктор Иванович, разговор об интервью мы ведем довольно давно. Если помните, мы собирались привязать его к юбилею замечательного фильма Юрия Мамина «Бакенбарды» — в минувшем августе исполнилось 30 лет с тех пор, как он вышел. Я тогда был совсем юн, но помню свое ощущение от вас — какой талантливый и странный молодой парень! А вы как-то вспоминали, как Остальский, ваш мастер в ГИТИСе, через много лет после выпуска сказал вам: «Молодец, ты пробился, всегда знал, что это талант, а не странность». И на курс он вас принял с формулировкой — «либо ненормальный, либо гениальный»...
— Да, он так и сказал! Его пытались убедить, что не надо меня брать: «Зачем? Что он будет делать?» А он на это ответил во время третьего тура конкурса по мастерству: «Мы отыщем ему применение. Он еще найдет себя». Пройдут годы, в 2003 году я его приглашу на премьеру фильма «Бедный, бедный Павел». Мы обнялись, и он сказал: «Теперь ты стал мастером!» Я видел, как он мною гордился, как был счастлив оттого, что тогда рискнул и не ошибся. И я ему буду по гроб жизни благодарен.
Всеволод Порфирьевич — мой родитель в профессии, второй отец. Мать с отцом меня в жизнь отправили, а Остальский-то отправил в судьбу.
— В суровую жизнь они вас отправили. У вас была тяжелая молодость, а у ваших родителей — непростые судьбы.
— Молодость тяжелой быть не может! Она может быть спокойной, пустой, яростной, агрессивной, сексуальной, взбалмошной, странной, умиротворенной... Молодость должна быть разной, но я понимаю, куда вы клоните. Я не могу назвать свою молодость тяжелой, но то, что она была разнообразной, яростной и бесстрашной, совершенно точно. И все же, при всем моем бунтарском, пофигистском поведении в молодости — по собраниям я не любил ходить, портвейн пил — я всегда был дисциплинирован, да таким и остался.
А мои родители другой жизни, кроме непростой, не знали, поэтому для них она была нормальной. Покажи им, помимо Орехово-Зуева, что-то другое, может, они и жили бы по-другому, и думали не так. В африканской пустыне люди живут, не зная, что есть океаны, реки, снег, — и им нормально. Другой жизни они не ведают.
Говорят, что в те давние годы, во время молодости моих родителей, мы плохо жили. Но для нас это не было плохо — мы просто жили, и другой жизни у нас не было. Смута в умах начинается, когда люди усматривают что-то другое. Им кажется, что там рай, а здесь беда. Но это же заблуждение! Там тоже жизнь со своими проблемами и червоточинами...
Много повидав, познав и приобретя, я вспоминаю прошлое, жизнь родителей чуть ли не со слезами. Боже мой, как они прожили свой век! Темно, неграмотно, голодно, не по-человечески несправедливо. Ничего не увидев, не попробовав, не погуляв, не порадовавшись. А что делать? Это их жизнь . Они и пили, и гуляли, и плясали, и — радовались... Только качество всего этого было другим. Краски судьбы отличались.
— Не могу представить, что ваша мама, живя в Орехово-Зуеве, за всю свою жизнь ни разу не побывала в Москве.
— Никогда она там не была.
— Сядь на электричку и поезжай, в чем проблема?
— Вам легко говорить. Расскажу про себя — когда я возмечтал быть актером, то почему рвался поступать в Москву? Потому что близко было. Думал, «зайцем» кинусь в электричку и как-то доеду. Двадцати пяти копеек не было! Ну не было. Вот как вам это объяснить? Приходилось ехать «зайцем». А у матери украдешь 20 копеек, чтобы хотя бы пирожок съесть и на метро пять копеек осталось.
Я тогда думал: уж если в Москве не поступлю, то до Ярославля и города Горький, сегодняшнего Нижнего Новгорода, никогда не доеду. Почему? Билет десять рублей стоил! Да у меня таких денег никогда не было и не будет.
— Там тоже были театральные вузы?
— Там были очень хорошие средние специальные театральные училища. Шикарные были училища, они очень котировались. Но мне туда было не добраться.
Поэтому я не удивляюсь, что мать не доехала до Москвы. И таких, как она, в Орехово-Зуеве было много.
Армия женщин, красивых и не очень, грудастых и без этого, шла работать на фабрики — с девяти утра до трех дня, с трех до 11 вечера, с 11 вечера до шести утра. В три смены город гудел фабриками! Бабы там работали по восемь часов с 20-минутным перерывом. А потом женщины выныривали из горнила этого хлопчатобумажного производства. Прически в пуху, они уставшие, полуглухие от грохота станков, громко разговаривающие. Но женщины шли по домам и уже думали о другом. Надо обед сготовить, надо своему мужику сделать подарок... И так далее.
И вы говорите, что это тяжелая, трудная жизнь? Да нет — это просто жизнь, и другой жизни тогда не было. А сегодня я наблюдаю, как молодые люди, одетые, обутые, обласканные всеми прелестями судьбы, говорят: «Мы плохо живем, власть у нас отняла молодость». И я задаю вопрос — а чего ты хочешь? Каков твой земной замысел? Вот я мечтал стать актером — и подчинил этой мечте даже унижение себя.
— Какое унижение?
— Смеялись надо мной: «Ну какой ты артист? Лопоухий, с редкими зубами, конопатый». Я поступал в Школу-студию МХАТ в 1970-м, и ничего не было актерского во мне в понимании того времени. Я сквозь нищету, сквозь насмешки шел к мечте. Когда мне в Школе-студии МХАТ набиравший курс Виктор Монюков сказал: «Вы никогда не будете артистом!» — и не принял меня, я прошел и через это.
Вот и все.
— Да, вы же были вне востребованных во время вашей молодости актерских типажей... То, что вы сделали себя в профессии, было подвигом.
— Это не просто подвиг, это чудо было.
И роль в «Бакенбардах» у меня ведь появилась в 1989 году. Посчитайте, сколько мне тогда было лет — я ведь уже был не юн, в тридцать-то восемь. Тогда мне впервые предложили главную роль — и то случайно. Дима Певцов был занят у Панфилова, Сергей Колтаков закапризничал, царство ему небесное. И вдруг второй режиссер фильма Володя Студенников обратил внимание Юрия Мамина на мою персону— и покатилось-понеслось. Если бы не «Бакенбарды», я бы не встретился с Балабановым, не сыграл в «Брате» и «Брате-2». А если бы не Мамин и не Балабанов, на меня, наверное, никто не обратил бы внимания. Это внимание, этот успех помогли мне спастись и стать тем, кем я сегодня являюсь.
— До 38 лет в вашей жизни было очень многое. Вы не по собственной воле уходили из театра, работали грузчиком, спали на мешках. И — вдогонку к словам Остальского о таланте и странности — за это время прошли жизненный путь, который, возможно, помогает вам так хорошо чувствовать героев Достоевского. Вы прожили то же, что и многие из них, — к примеру, Раскольников, с которым вел диалог ваш замечательный Порфирий Петрович. Вы упали, а потом победили себя, поднялись — и стали другим.
— Вспоминая об этом, я думаю: Господи, неужели это было? Ведь оттуда не возвращаются! А когда я гляжусь в зеркало — это не шизофрения, а специфика профессии, предполагающей повышенное внимание к себе, — мне иногда кажется, что я реинкарнировался, переродился. Лицо вроде то же, только морщинки прибавились, но это года. Взгляд усталый, более суровый — какая-то изношенность во внешнем виде... Но мне кажется, что я стал другим существом — с иным вкусом, отношением к поведению других людей, иным пониманием любви, смерти, общечеловеческих ценностей. С другим пониманием алкоголя, а, стало быть, порока. Болезнь, беда — это результат пьянства, а причина этого порок. Пьяный человек находится в порочном состоянии. Он считает, что ему хорошо, но это только иллюзия.
Я изменился категорическим образом, развернулся на 360 градусов. Как это случилось — не знаю. Потому что я того мистического кабинета не смог увидеть, не распознал меняющего людей волшебного приемного покоя, куда меня ввели, вывернули наизнанку, почистили, подраили, поколотили и выкинули обратно в жизнь. Я живу сегодня другой, хотя фамилия, имя, отчество у меня те же самые. И я рад и счастлив. И не боюсь смерти.
Со мной разговаривали и врачи, и исследователи этой проблемы. Они хотели понять, что я делал, когда... Слово «бросил» слишком мелкое для освобождения от алкоголизма. Это более глубокая, тяжелейшая история. Они пытались через меня распознать феномен. Но это действительно чудо. Уже 21 год, как я не пью. И я об этом не думаю.
И сегодня я трижды счастливее тех, кто когда-то поднимал брови и посмеивался, глядя на меня, потому что мои победы для них недосягаемы. Помню, как в 1974-м, после экзаменов в ГИТИС, охнула мама одного из абитуриентов: «Господи, мир перевернулся! Мой мальчик играет на гитаре, знает французский, он из интеллигентной семьи — и его не приняли! А какой-то лопоухий из казармы вдруг поступил...»
А ведь действительно, тут не то что справедливости, но и простейшей логики нет: из какого-то гадкого барака, из фабричной массы вдруг выходит Сухоруков Витя и становится народным артистом.
И ему ставят бронзовый памятник в его родном Орехово-Зуеве, на центральной улице Ленина.
Материал опубликован в № 10 газеты «Культура» от 29 октября 2020 года.
Фото: www.moiarussia.ru; Кирилл Зыков / АГН «Москва»


