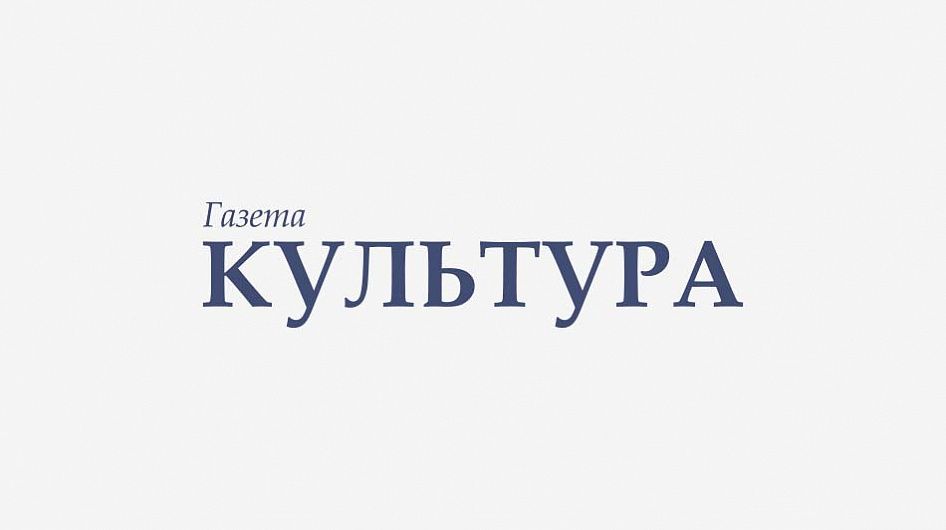
Писатель Сергей Чупринин: «Есть те, кто плевать хотел на рынок: они как писали то, что им Бог диктует, так и продолжают писать»
Разговор о литературе, власти и рынке с главным редактором журнала «Знамя»
В советские времена писатели были и любимцами, и главными оппонентами власти. Кто-то получал ордена и был «советским миллионером», других не печатали, судили, выдавливали из литературы и за рубеж. А в сегодняшней официальной иерархии о писательском месте говорит то, что накануне референдума никому из них не вручили звезду Героя Труда. Врачи, рабочие, актеры для власти важны, а литература и те, кто ее создает, не особенно. В советскую пору жить, сохраняя совесть и достоинство, литератору часто мешала его важная социальная роль и служившие платой за лояльность «пряники». Как с писательской совестью и достоинством обстоят дела теперь, когда власть ничего не должна? Как остаться настоящим писателем, когда свои условия диктует рынок и потерявший прежнюю разборчивость читатель?— Сергей Иванович, какие жизненные стратегии были возможны для писателей при советской власти?
— Каждый талантливый писатель индивидуален, о каждом из них нужно говорить отдельно, но в целом после Октября 1917-го перед совестливыми и глубокими людьми возникли три варианта литературного поведения. Первый вариант — преданно служить новой власти, потому что плетью обуха не перешибешь. Что получилось у тех, кто сделал такой выбор?
Есть стихотворение Эдуарда Багрицкого «Разговор с комсомольцем Николаем Дементьевым» с известными всем строками: «А в походной сумке — спички и табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак». Тихонов и Сельвинский выбрали службу. И Николай Тихонов, необыкновенно одаренный поэт, стал воплощенным ничтожеством, хотя и собрал все возможные награды, премии, звания, должности. Он превратился в «человека для президиума» и совершенно перестал быть поэтом.
Илья Сельвинский был очень ярок и интересен в пору своих конструктивистских увлечений и когда он пытался написать революционный эпос. Он тоже хотел быть человеком для президиума, однако у него не получилось, — видимо, темперамент был другой. Но как поэт он тоже стал никем. Более того, и он, и Тихонов стали совершать одну подлость за другой, эти подлости были направлены против товарищей-писателей. Их поведение в сюжетах тридцатых годов, в борьбе «с низкопоклонством перед Западом» и с романом «Доктор Живаго» отвратительно.
Второй вариант — внутренняя эмиграция. Кто-то ушел в нее сам, кого-то вытолкнули, не пуская в освещенное литературное пространство. Это путь Ахматовой, Андрея Платонова, в значительной степени Юрия Олеши. Одни перестали писать, как Олеша, кто-то продолжал, но потерял всякую надежду на то, что его произведения увидят божий свет. Зато когда наступила оттепель шестидесятых годов, оказалось, что написанное во внутренней самоизоляции куда значительнее напечатанного.
Но был и третий путь, которым пошли большинство писателей. Среди них и Пастернак; а одна из самых ярких и показательных фигур здесь, безусловно, Корней Чуковский. Это путь автономии внутри советской литературы и той ситуации, в которой они оказались. Здесь можно вспомнить определение двадцатых годов: писатели-«попутчики». Они и не прислуживали власти, и не боролись с нею, а находили нишу, в которой можно было чувствовать себя относительно свободными, не забывая о совести, долге и чести, стараясь не совершать подлости. Многим из них, в частности и Корнею Ивановичу, это удалось.
Тут многое зависело от психофизиологической природы таланта — для того, чтобы существовать в литературе, приноравливаясь к условиям игры, требовалась большая пластичность. Чуковский был блистательным литературным критиком. Когда оказалось, что его талант литературного фельетониста для новой действительности не годится, он стал замечательным детским писателем. Когда и это было подвергнуто жестокому осуждению и травле, он ушел в литературоведение. Корней Иванович каждый раз находил то пространство, в котором мог быть достаточно свободным. И если у него появлялась возможность проявить свой общественный темперамент, он его проявлял.
Чуковский очень активно вступился за Бродского, хотя не слишком высоко ценил его стихи. Когда у Солженицына возникли большие трудности, именно Чуковский его приютил. Тогда Корней Иванович уже был защищен своим статусом — как бы то ни было, но значение и вес подлинных писателей власть понимала. Вспомним разговор Сталина с Пастернаком о Мандельштаме, когда Сталину нужно было выяснить одно — «мастер» тот или «не мастер»? Чуковского власть с самого начала понимала как мастера. Он занимается переводами — прекрасно. Он занимается Некрасовым — прекрасно, пусть. Поэтому в свой черед к нему пришли и ордена, и Ленинская премия.
Здесь очень показателен пример Пастернака. Его стихи печатались нечасто, его положение в мире поэтов порой было странным и непонятным. Но никто не мешал ему переводить «Фауста» Гёте, трагедии и комедии Шекспира, обеспечивая себе и достойное существование, и высокий литературный статус. Пока можно было идти вот так — попутно — это устраивало и власть, и Пастернака. Потом это перестало его устраивать, и он написал «Доктора Живаго», точно зная, что роман никогда не будет напечатан в Советском Союзе. Пастернак не ошибся, его попытались вытолкнуть не только из освещенного литературного пространства, но и вообще из литературы.
— Что давала такая писательская пластичность литературе?
— Это имело большие последствия. Невозможность печатать серьезные вещи вызвала колоссальный подъем переводческой школы. Генрих Сапгир и Евгений Рейн не могли публиковаться как взрослые поэты, а как детские выпускали одну книжку за другой. Юз Алешковский не мог напечатать «Товарищ Сталин, вы большой ученый…», но опубликовал «Кыш и Двапортфеля». Бродского травили и гнобили и до, и после ссылки, но пионерский журнал «Костер» исправно печатал его стихи. Конечно, литература и культура многое потеряли из-за этих вынужденных уходов в автономные, закрытые области. Но сами эти области очень выиграли… В чем, говоря по-старому, и заключена «диалектика литературно-художественного процесса».
— В какое положение писателей ставит рынок? Можно ли существовать в литературе, игнорируя его требования?
— Сейчас власть не интересуется литературой. Как сказал Василий Васильевич Розанов, «начальство ушло». За последние тридцать лет мне никогда не приходилось слышать о том, чтобы власть чего-то хотела от писателей. Давала им какие-то социальные заказы, что-то от них требовала. Преследовала их за те литературные произведения, которые были опубликованы. Теперь другой вызов, вызов рынка, который для настоящих писателей оказался ничуть не менее опасен и труден, чем вызов власти.
Если мы посмотрим на литературный мир, то увидим, что чрезвычайно многие писатели и старшего, и среднего поколения, и совсем молодые пишут свои сочинения, согласуясь с рынком. Стараясь, чтобы те стали занимательнее, доступнее новому, не слишком образованному поколению читателей, включая в свои тексты разного рода манки. Но есть и те, кто плевать хотел на рынок. Они как писали то, что им Бог диктует, так и продолжают писать. Большого коммерческого успеха у этих писателей, разумеется, нет — и быть не может. Но мы знаем, что есть Людмила Петрушевская, которая пишет так, как она пишет, безотносительно к какому бы то ни было рынку. Мы помним пример замечательных, ныне действующих поэтов Олега Чухонцева и Александра Кушнера, которые никак не отзываются на требования рынка, книжных магазинов, книжной рекламы. Премией «Большая книга» был отмечен огромный двухтомный роман писателя Валерия Залотухи «Свечка», написанный без всякой надежды на публикацию. Он был опубликован уже, к сожалению, после смерти этого талантливого автора. Премию «Большая книга» получило и автобиографическое повествование Марии Степановой «Памяти памяти». Там нет никакой попытки подладиться к рыночным требованиям и защищенному, легкому восприятию литературы, которое этот рынок диктует.
Книга Степановой получила литературные награды, она переведена на разные языки. Это значит, что можно по-прежнему служить Слову, не думая ни о корысти, ни о каких-то профитах. Но думая об искусстве и о том, что жизнь дается один раз и другой не будет… И достигать успеха.
Фото: www.litschool.pro и et-cetera.ru


