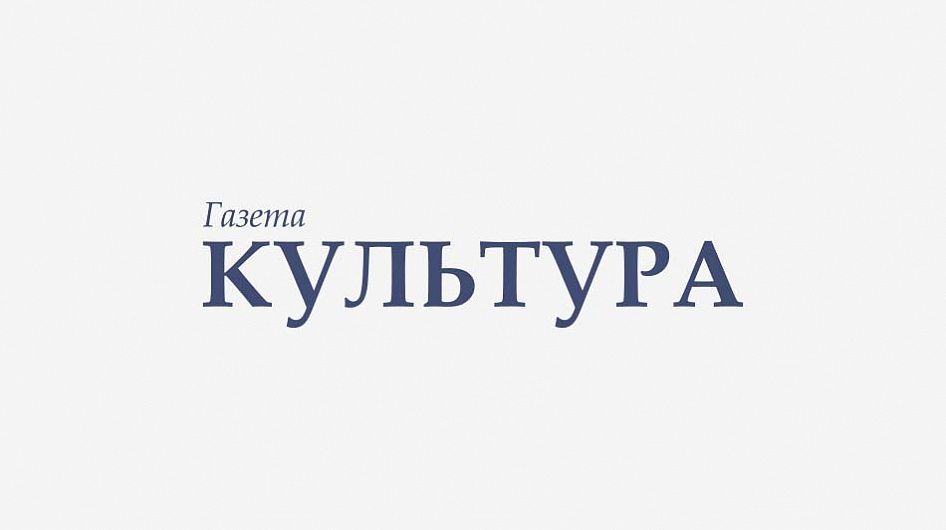
Одиноким предоставляется беллетристика
«Консуэло», «Валентина», «Индиана»... Романтические истории французских барышень с непростой судьбой были настольными книгами отроковиц на протяжении полутора столетий. Пылкие креолки, юные наследницы титулов и состояний, талантливые, но безродные певицы — все они страстно влюблялись, обманывались, страдали, но неизбежно побеждали в гендерной войне, затеянной парижской «суфражисткой». Только в конце 1980-х зачитанные до дыр томики «госпожи Егора Занд», как окрестили писательницу публицисты консервативного толка, уступили место карамельным покетбукам. Вездесущие маркизы ангелов, новоявленные мисс Марпл (только юные и прекрасные), отчаянные авантюристки, сбегающие то из заключения, то из-под венца, вскоре сменились более жизненными персонажами — кающимися шопоголиками, острыми на язык няньками, своенравными секретаршами деспотичных гранд-дам. Пока чиклит осваивал рынок, на этажерках литературных гурманов множились женские книги другого толка — Ванеева, Василенко, Петрушевская, Токарева, Щербакова, Нарбикова. Разные по тематике, настрою, смысловому наполнению и художественному методу сборники писательниц позволили вновь заговорить о феномене женской прозы. С ее темами любовных мук, абортов, родов, бытового ада. «Хорошая литература не может быть ни женской, ни мужской, — приводили аргумент «фаллократы». — В высотах духа пола нет!» «А национальность есть? А возраст? А вероисповедание?» — парировали феминистки.
Зачем вы мучаете читателя
Пока в прессе велись диспуты, а читательницы рыдали в подушку, сопереживая какой-нибудь инфузории-туфельке, критики наметили тренды возродившегося жанра. Агрессия, исповедальность, излишний натурализм. Последнее особенно задевало. Неудивительно — авторы с готовностью распахивали двери не только спален и кухонь — женских больниц. Так, в рассказе Светланы Василенко «Царица Тамара» в палате оказываются три дамы, две готовятся к аборту. Полина не хочет ребенка от нелюбимого мужа, Надю супруг предал... С брезгливым превосходством девушки смотрят на Тамару, ее уродливый выпуклый живот, исполосованный белыми шрамами, высохшие груди. В больнице она двенадцатый раз... Но Тамара считает себя счастливой. «Бедные все, ни у кого любви не было, а я по больному, по больному. Одна я люблю, одна из всех счастливая...»
«Зачем вы мучаете читателя? Неужели ему и так не хватает чернухи?» — недоумевали товарищи по цеху. Впрочем, критика на первые литературные попытки Жорж Санд была куда более резкой. Роман «Лелия», увидевший свет в 1833 году, солидные издания назвали отвратительным, а журналист Капо де Фёйид даже потребовал «пылающий уголь, чтобы очистить свои уста от этих низких и бесстыдных мыслей». Речь велась о молодой особе, которая, желая постичь радости плотской любви, переходит от одного мужчины к другому. И все безрезультатно. Впоследствии, правда, писательница переработала роман, подсократив интимные подробности и добавив социальной остроты.
Между нами, мальчиками
Как бы ни плевались маститые критики, наткнувшись на очередной «репортаж с гинекологического кресла», представители сильного пола оттачивали перо в жанре женских откровений с давних пор. Маркиз де Сад с «Жюстиной», считающийся пионером на этом поприще, на самом деле воспользовался ходким литературным товаром. От лица дам, в основном хозяек великосветских салонов, высказывались некогда популярные, а теперь безнадежно забытые беллетристы Галантного века. Заглядывать в дамский будуар было не только не зазорно, но и модно в XIX столетии. «Горничная Линотта слышит, как за стеной кто-то тихонько скребется: это Тюрлюпен, любимая обезьянка графини, ей скучно в своем гнездышке среди зеркал, поставленных друг напротив друга. «Как спали, Мадам?» — «Прескверно, Линотта... На меня теперь, должно быть, и взглянуть-то боязно». — «Что вы, Мадам! Вы свежи, как святоша после благостного сна…» Иллюстрированный альбом о жизни светской львицы художника Мориса Леллюара (автор текста он же) был типичным чтивом на ночь. Не Вольтера же на сон грядущий штудировать.
В современной прозе первый приз по части женских исповедей отдают Янушу Леону Вишневскому. Даже не «Одиночество в Сети», скорее «Любовница» и «На фейсбуке с сыном» дают фору самым отчаянным писательницам. «Временами под утро, все еще пьяная, я просыпалась, дрожа от холода, и шла в ванную. Возвращаясь, видела свое отражение в зеркале. Щеки, испещренные темными подтеками остатков косметики. Красные пятна засохшего вина, вылитого на грудь... У меня случался приступ ненависти и презрения к себе, к нему, к его жене и ко всем вонючим розам этого мира».
«Ох, как же я тогда влюблялась! — признается в книге «Я стою у ресторана» героиня Эдварда Радзинского. — В девять лет влюбилась в дворника, у него была такая красивая метла. В десять — в школьницу из старшего класса, у нее были невероятно красивые пепельные волосы! Потом я влюблялась по очереди во всех своих учителей, даже в старца учителя математики, как в Мазепу. У него были красивые морщины... Сашу я полюбила немедленно. Встретила его в ГИТИСе. Он работал в приемной комиссии, а я... провалилась... Он соизволил пригласить... Нет, в кино не удостоил, сразу на дачу... А потом я ему звонила. Сама. Безостановочно... «Все, Нина, приду». Я «делаю глаза», ресницы. А Саши — нету... Я ему так надоедливо звоню, а он говорит: «Заяц, как ты отнесешься к тому, что я тебя брошу?» А сам хохочет, будто шутка. Кстати, он нас всех называл «заяц», чтобы не путаться!»
Ищите женщину
Лирическая героиня историка и телеведущего, средней руки актриса по имени Нина, — персонаж очень типичный для популярной женской прозы последних лет. Не слишком удачливая в профессии (учит роль маляра для дурацкого сериала), потерянная («Одиноко, как на мысе Челюскин»), обескураживающая в своей откровенности, она согревается злословием и вермутом, коротая вечера за телефонными беседами с недалекой подружкой. Умная здесь, в общем, и не нужна — иначе селфи с элементами душевного стриптиза смажется. Какой же месседж хочет донести героиня? Ветхий, как прижизненные издания Жорж Санд: «Прическу тоже к дьяволу: короткая стрижка!»
Рассуждения о том, как хорошо быть феминисткой («Готовить не надо, весь туалет — куртка и джинсы») выглядят сегодня смысловым перевертышем. Вывод элементарен: тоскливо без любимого, хоть вой. Аврора Дюпен, щеголявшая по Парижу в мужском костюме, несмотря на сомнительную литературную ценность ее произведений, совершила даже не переворот. Революцию. Страстные креолки, изысканные оперные дивы и нежные наследницы несли идеи Вольтера и Руссо, выражали горячий протест против попрания человеческой личности жесткими общественными установками — сословными, статусными, гендерными. Отстаивали право женщины на любовь. Современная проза «спорного» жанра тоже не про прическу и абортарии — она, увы, про одиночество. В Сети, в семье, в кругу друзей, в шикарном особняке и однушке на окраине. Отчаянное, фрондирующее, смиренное и забубенное. Женское и человеческое.


