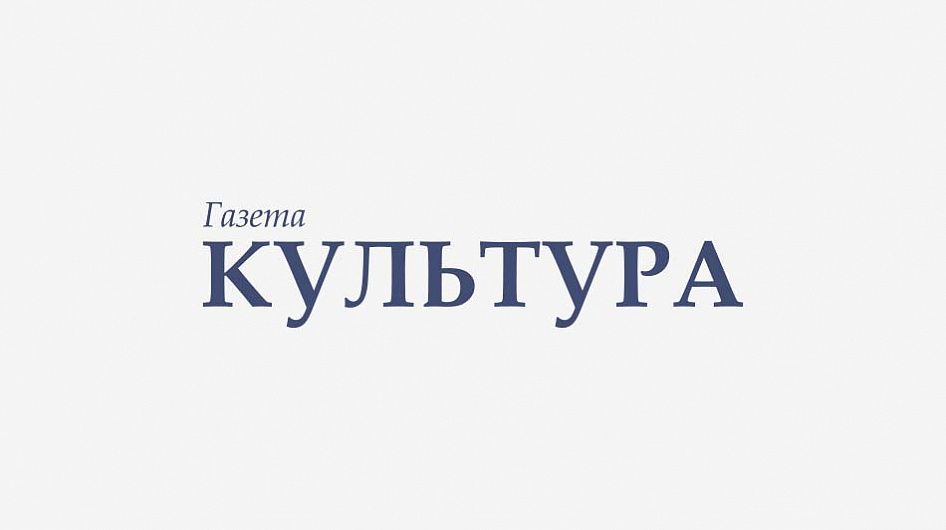Наша газета уже рассказывала о том, что режиссер Сергей Гинзбург приступил к съемкам телевизионного фильма «Сын вождя» по литературному сценарию Эдуарда Володарского. Короткую — всего-то сорок один год, — но очень непростую жизнь Василия Сталина предполагается уложить в 12 серий.
Сталина — Анатолия Дзиваева, Берию — Сергея Газарова, Буденного — Виктора Смирнова и Василия в исполнении Гелы Месхи зрители увидят на Первом канале. С любезного разрешения автора «Культура» предлагает читателям отрывок из заключительной — двенадцатой — серии.
…Василия долго мурыжили, прежде чем он попал в камеру. Осматривали, ощупывали и даже на свет смотрели всю одежду подряд — шинель, китель, нижнюю рубаху, сапоги, портянки… Потом он несколько раз расписывался в разных канцелярских бумагах… потом его фотографировали… фас... и профиль… в полный рост… и по пояс… потом отпечатки пальцев снимали… Василий молча и тупо исполнял команды, и лицо было равнодушным… И такими же молчаливыми и равнодушными были надзиратели — они выполняли свою работу… У того, кто прощупывал одежду Василия, пальцы были длинными и нервными, с широкими и плоскими ногтями, как у пианиста… Первый раз Василий вышел из оцепенения, когда старший надзиратель обратился:
— Других вещей, продуктов при вас не было, кроме указанных в списке, Василий Павлович, распишитесь вот здесь, в конце списка.
— Я…не Василий Павлович… меня зовут Василий Иосифович… фамилия моя Сталин…
—Да? Нет, извините, в документах, присланных с вами, указано — Васильев Василий Павлович, гражданин подследственный, — бесстрастно пояснил старший надзиратель. Подпишите, пожалуйста, вот здесь… в конце списка вещей.
А в большой комнате работали молча еще четыре человека. Они сидели за соседними столами — один что-то стучал на машинке.
Сталин взял химический карандаш, нагнулся над столом и расписался там, где указал длинный, как у пианиста, палец надзирателя. Надзиратель взял формуляр, прочитал: «ВАСИЛИЙ СТАЛИН». Поднял глаза на Василия, сказал укоризненно, но по-прежнему вежливо:
— Ну, зачем вы так, Василий Павлович? Ну, ей Богу, с вами по-хорошему пытаешься, по-человечески, а вы… — и старший следователь вдруг привстал и с такой силой ткнул кулаком Василия в лицо, что тот упал бы навзничь, если бы стоявший сзади другой надзиратель не успел бы подхватить его под руки. А следователь продолжал тем же равнодушным, правда, чуть обиженным голосом:
— Вот следователь назначит вам медицинскую экспертизу, пускай врачи и устанавливают — Васильев вы Василий Павлович или шизофреник, который выдает себя за товарища Сталина… А мне из-за вас формуляр вот теперь заново писать… И так две ночи не спал, а у меня язва, мне по часам питаться надо… Сволочь ты, а не сын Сталина! Уводите его к чертовой матери! Не то я ему все зубы выбью, сыну вождя всех народов!
И два надзирателя повели Василия к двери…
<...>
…Комнату следователя можно было назвать пустой — стол, два стула, на столе лампа мощностью свечей в двести. Папка в серой картонной обложке с черным грифом «ДЕЛО №…» И еще на столе — графин с водой, граненый стакан, телефонный аппарат.
— Дело ваше простое и ясное, гражданин Васильев, и долго тянуть тут нечего. Статья пятьдесят восьмая, часть первая, пункт «а» — антисоветская клевета и пропаганда против руководителей партии и правительства с целью их политической и моральной дискредитации. И какое за это наказание вы, я уверен, тоже знаете… Вы согласны с тем, что я вам излагаю? — спросил под конец тирады следователь. — А, гражданин Васильев?
— Я не гражданин Васильев. У меня другие отчество и фамилия.
— Знаю, знаю, вы величаете себя Василием Иосифовичем Сталиным, — покивал следователь. — Давно это с вами? Ну, то есть, стали считать себя сыном Сталина?
— Послушайте, гражданин следователь, вы говорили, что будет назначена медицинская комиссия, чтобы выяснить, здоров ли я психически. Когда она будет назначена?
— Да не будет никакой комиссии, — улыбнулся следователь. — Так решил генеральный прокурор СССР. Считают, что это у вас временный, так сказать, сдвиг по фазе. И связано это с чрезмерным употреблением алкоголя.
Василий все время щурился, отводил голову то в одну, то в другую сторону, потому что белый, слепящий свет лампы бил в глаза. Следователь внимательно следил: как только Василий отводил голову влево, он тут же поправлял лампу на столе, чтобы белый, режущий зрачки свет следовал за ним.
— Хорошо, я подпишу все пункты обвинения и признаю себя виновным.
— Отлично, — сказал следователь. — Вижу человека, становящегося на путь исправления.
— Но я подпишу с одним условием — вы позволите мне позвонить по телефону одному человеку.
— Какому человеку?
— Маршалу Семену Михайловичу Буденному, — сказал Василий. — Номер прямого телефона я помню.
Улыбка застыла на лице следователя. Он давно уже смотрел на Василия испуганно, а губы все еще кривились в дурацкой улыбке.
— А з-зачем в-вам Б-буденный? — наконец, не совсем твердо выговорил следователь.
— Вам это ничем не грозит, точно говорю, — сказал Василий. — Я только позвоню и — все…
— Что все? — постепенно приходя в себя, спросил следователь.
— Подпишу все обвинения.
— Ну, давай…звони… — следователь кивнул на телефон. — Только при мне звони. А я послушаю, что это за маршал Семен Михалыч?
— Он городской?
— Ноль пять набери, и будет городской.
Василий сел поближе к столу, взял телефонную трубку, медленно набрал 05, послушал и набрал четыре цифры. Следователь внимательно смотрел и для верности записал цифры на листе.
— Семен Михайлович? — спросил после паузы Василий. — Василий Сталин беспокоит. Откуда звоню? Из тюрьмы звоню. Да. Которая в Лефортово. Меня тут заставляют от фамилии моей отказаться и от отчества. В чем обвиняют? А я трубку следователю дам. Он сам скажет… Как там коняшка моя, Семен Михайлович? Рыжик жив-здоров? Выручили вы меня тогда… Век благодарен. Теперь опять выручайте, Семен Михалыч, — и Василий протянул следователю телефонную трубку.
Тот взял, осторожно поднес трубку к уху, проговорил:
— Старший следователь генеральной прокуратуры Глушаков Евгений Ильич. Здравствуйте, товарищ маршал. Да, я веду дело Васильева Василия Павловича… Ну, да, я знаю, что Василий Сталин, но… распоряжение товарища Берии… И без его приказа я ничего изменить не могу. Свидание? Конечно, Семен Михайлович, как я могу отказать? Хотя, свидания с подследственным не положены, но как я могу вам отказать? Да, да, конечно. Всего вам доброго, Семен Михайлович… — следователь послушал короткие гудки и осторожно положил трубку и посмотрел на Василия, улыбнулся:
— Думаете, маршал поможет? Э-эх, Василий Иосифович, дорогой вы мой — оставь надежды, всяк сюда входящий…
…В ярости Берия почти вбежал в свой кабинет, бросился к письменному столу, схватил телефонную трубку, хотел набрать номер, но остановился, злобно посмотрел на полковника, вошедшего в кабинет следом за ним:
— Телефон его к-какой? Где он сейчас? На даче? Соедини, давай!
Полковник метнулся в приемную. Берия держал трубку возле уха, услышал голос на другом конце провода и сразу заговорил с напором и сильным грузинским акцентом:
— Ты, Семен Михалыч?! Берия говорит! Скажи, дарагой, зачем в чужие дела лезешь, а? Ты у нас герой Гражданской войны, панимаешь, живой памятник! А ты что делаешь? Лошадей хороших выращивать не хочешь, да? Ты в интригах участвовать хочешь? Что я имею в виду? Ты вспомни, как ты в тридцать седьмом отстреливался, когда тебя брать приехали? Из пулемета, гаварят, отстреливался! Товарищ Сталин выручил, да? Теперь товарища Сталина нету, дарагой, некому выручать будет! И пулемета у тебя уже нету!
— Не пугай, Лаврентий Палыч, — гудел в трубку Буденный. — Если надо будет, я и шашкой всех порубаю! До пояса, ага! А дальше само развалится!
Он сидел у себя в кабинете, на даче. Окна выходили на буйно зеленеющий участок. И закатывалось весеннее солнце 1953 года. Буденный был в галифе, заправленных в толстые шерстяные носки, и казачьей венгерке, наброшенной на нательную нижнюю рубаху.
Прямо на письменном столе стояли начищенный до ярого блеска самовар, большая чашка с чаем, ваза с баранками и печеньем. Кипы газет, книги по коневодству были сдвинуты в сторону. Буденный отпил глоток чая, огладил пышные усы. Слушал Берию и молчал, потом сказал:
— Он сын моего друга… Он Василий Сталин, а ты из него какого-то… хрен его знает, кого хочешь сделать… Конечно, за оскорбления должен ответить, только… тюрьма — это шибко люто… Или что, Лаврентий Палыч, тридцать седьмой год вертается? Мало, что ль, народу порубали? Я так разумею, товарищ Берия, вдругорядь не получится…
— А это не твое дело, дарагой, получится или не получится! — яростно отвечал Берия, и даже стекла пенсне запотели. — Ты давай, конские породы улучшай! Смотри, солдат революции, на ветру стоишь! Простудишься и заболеешь! Докторов придется к тебе снова присылать! Не о чужих задницах — о своей думай! Друг отца, твою мать! Я тоже друг отца! Мы все здесь друзья отца! И что это значит? Пусть сынок друзей отца с гавном мешает?! Пусть на всю страну позорит! Кто ему дал такое право?! Он же в первую очередь отца своего позорит! Не панимаешь, да? Защищать лезешь?!
Берия орал в трубку и уже плохо соображал, что орет, пот крупными каплями выступил на лбу, пенсне вдруг поползло с переносицы и упало на стол. Берия швырнул трубку на аппарат, упал в кресло и, достав платок, стал яростно вытирать лицо, шею и продолжал выкрикивать ругательства, но уже на грузинском языке:
— Кавалерист сраный! Остолоп! За всю жизнь только шашкой махать и научился, твою мать!
…Буденный осторожно положил трубку на аппарат, отпил большой глоток чая, рушником, который лежал на коленях, вытер усы, лицо. Потом встал, казачья венгерка упала с плеч, и он остался в одной нательной рубахе и галифе с красными лампасами, заправленными в толстые шерстяные носки. Он передернул плечами и подошел к стене — там висели две сабли и большие фотографии. На одной — длинная, уходящая к горизонту шеренга всадников. Это Первая Конная, выстроившаяся в степи перед атакой. Эскадрон за эскадроном. Развевались на ленивом ветру знамена полков, бунчуки на пиках, холодно блестели за спинами бойцов стволы винтовок, и змеиными жалами горели клинки сабель, положенные на плечи. А впереди этой армады на конях — Он, Командарм! И рядом знаменосец Красного Знамени революции. Он — один! Он — командарм! Без страха, прищурившись, он смотрел вперед.
Буденный глядел на фотографию, и в душе его громко запела труба. Она пела сигнал к атаке. Командарм вдруг совсем по-мальчишески шмыгнул носом, и мутная тяжелая слеза поползла на щеку. А он все смотрел на фотографию, и золотая труба пела атаку…
Титр: Москва, Бутырка, осень 1953 года
В камере томилась в духоте и табачном дыму дюжина заключенных. На двухъярусных нарах кто спал, накрывшись серым тонким одеялом, кто читал газету или затрепанную книжку, кто играл в замусоленные, затрепанные карты. Парень лет тридцати негромко тянул песню. На него никто не обращал внимания — каждый был занят своим делом.
И Василий спал, с головой укрывшись шинелью.
— Шлю тебе, Тамара, синеглазая, может быть, последнее письмо,
Никому его ты не показывай — для тебя написано оно.
Помнишь, как судили нас с ребятами в маленьком и грязном нарсуде,
Поминутно публику оглядывал, но тебя не видел я нигде…
— Дуплись давай, Цыпа! Отрублю!
— И рад бы, да нечем… Два-пять у кого? Кто два-пять заныкал?
— А вот вам два-восемь, не хотите? Костя, ну, че ты хавало разинул? Ходи давай, игруля!
— Да нечем ходить! Козлы будем!
Костяшки домино громко трещали по столу, и разговаривали они громко, не слушая печальную песню. Парень пел для себя:
— Говорят, что ты совсем фартовая, даже перестала воровать,
Говорят, что ты, моя дешевая, рестораны стала посещать…
Я вернусь к тебе с тюремной славою, наколов церквуху на груди,
Но тогда уж ты, порча шалавая, на тюремной площади не жди…
— Рыба! — рявкнул один из игроков в домино и грохнул костяшкой по столу.
В ту же секунду со скрежетом открылась дверь камеры, надзиратель впустил в камеру заключенного. И дверь закрылась.
— Сын вождя тута? — весело спросил пришедший зек по кличке Турман.
— Сын вождя изволит почивать, — так же весело отозвался один из игроков в домино, смешивая на столе обеими руками костяшки.
— Я ему новостишку приволок — закачаешься! Эй, сын вождя, с тебя ведро одеколона! — и Турман помахал свернутой в трубочку газетой.
— Ты нам-то расскажи… — сказал Цыпа. — Мы просто обоссываемся от любопытства!
Василий приподнялся на нарах, спустил ноги на пол.
— Может, фрайер в галстуке атласном
Обнимает крепко у ворот,
Но не смейся, милая, напрасно,
Старый урка все равно придет… — продолжал петь парень на верхних нарах.
Турман присел перед сонным Василием, вновь помахал перед носом свернутой газеткой.
— Ну, чего? — промычал Василий.
— Через плечо — не горячо? — ухмыльнулся Турман. — Слышь, сын вождя, хана твоему губителю! Спекся!
— Кто? — сразу проснулся Василий. — У меня их много.
— Ты гутарил, кто самый главный? Главный вертухай СССР Лаврентий? — Турман поднялся и уже на всю камеру объявил:
— Слышь, граждане блатари, Берия теперь не главный вертухай СССР, он теперь враг народа! Да еще и английский шпиён!
Василий выхватил из руки Турмана газету, развернул, стал жадно читать.
— Фью-ить! — присвистнул кто-то. — Братва, так это ж амнистия!
— Окстись, малахольный, амнистию по большим праздникам объявляют!
— А это что, не праздник? — и несколько человек дружно заржали.
— Не, спорить не буду, шо шпиона за жабры взяли, конечно, праздник, но с другой стороны — какой это праздник, ежели он столько годов нам головы морочил?
— Он, сука, столько годов из нас кровушку пил, упырь поганый! Что Ежов, что Берия — два сапога пара! — сказал с верхних нар мрачный голос. — Я при нем три срока схлопотал…
— А его не было бы — не схлопотал бы? — ехидно спросил Цыпа.
— Но ведь все равно праздник, а? — возразил Турман. — Эй, сын вождя, скажи!
— Для него — точно праздник, — сказал еще один голос. — Берия ему персональный костюмчик шил, так сказать, по старой дружбе!
Несколько человек снова заржали.
— От встретишь ты его на этапе и па-га-ва-ришь па душам! — и Турман ударил себя с силой кулаком в грудь.
— Думаю, я его больше не встречу, — сворачивая газету, медленно проговорил Василий. — А жаль…
— Дай-ка сюда, — приказал Цыпа. Василий встал, подошел к столу и положил перед Цыпой газету.
Тот развернул ее, и сразу несколько человек сгрудились вокруг него, читали, вытянув шеи. Большим шрифтом было написано: «Сообщение Советского правительства…»…
А Турман все не унимался:
— Про него уже куплет сочинили!
И Турман нараспев продекламировал:
— Растет в Тбилиси алыча,
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча!..
Вся камера ответила дружным лошадиным ржанием.
…— Здравствуйте, Василий Иосифович, я ваш новый следователь Генеральной прокуратуры. Зовут меня Сергей Митрофанович Дудко. Я буду вести ваше дело.
Василий сидел в той же следственной комнате перед столом и молчал, глядя в зарешеченное окно. Наконец, спросил:
— А что с моим прежним следователем? Мне сказать можно?
— Можно, — усмехнулся следователь. — Все равно скоро сами узнаете. Он арестован. И прокурор, который вел ваше дело, тоже арестован…
— Значит, мое дело…? — неуверенно произнес Василий.
— Нет, Василий Иосифович, к вашему делу эти аресты отношения не имеют. Ваше дело я должен закончить в кратчайший срок и направить в Генеральную прокуратуру, а оттуда — в суд. Таково распоряжение.
— Чье? Генеральной прокуратуры?
— Нет, думаю, повыше. Политбюро… Единственное, что я могу обещать — разрешить свидания, в которых вам отказывал прежний следователь… Кстати, как вам в камере живется? Сокамерники не обижают? Там ведь народ разный…
— Нет, все нормально.
— Может, вас в одиночную поместить?
— Нет, благодарю вас, гражданин следователь, я хотел бы остаться на старом месте. А за разрешение на свидания спасибо, — спокойно отвечал Василий…