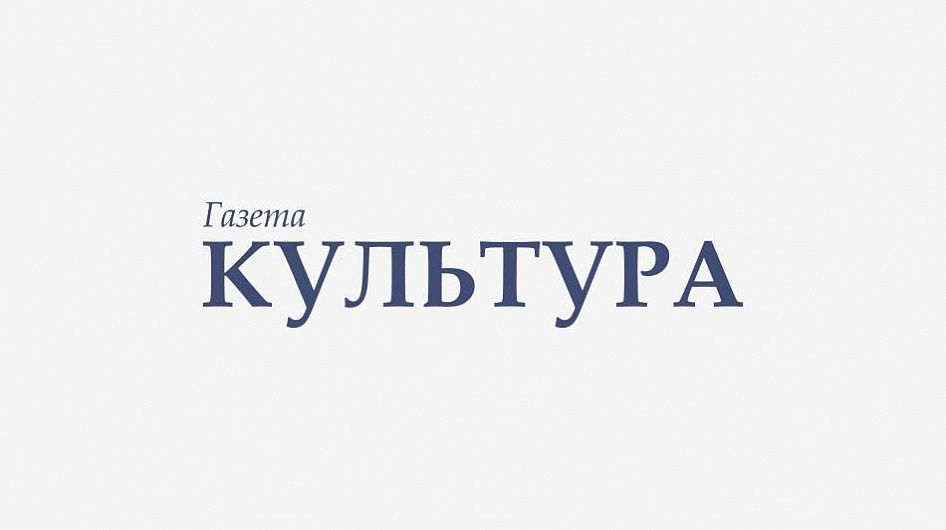
Довольно пустоты
Премьерами прошлого сезона в Театре на Таганке стали спектакли более-менее традиционные: комедия итальянская, комедия английская. И вот в афише появляется очередное классическое название.
Как утверждает Владимир Мирзоев, Островского он замыслил поставить давно, ведь в его пьесах заложена «русская матрица», которая, проходя через века, не меняется. «Уж лучше осознанно играть с традицией, чем пятиться от нее и сторониться, рискуя соскользнуть в сточную канаву», — пишет на своем сайте режиссер. Вот и в новом его спектакле не обошлось без подстраховки от канавы в лице устойчивого каркаса узнаваемой пьесы.
Молодой человек решает выбиться в люди, сделать карьеру и удачно жениться, для чего втирается в доверие к нужным людям, таким же малощепетильным, как он сам. Беспринципные карьеристы Глумовы живут в любую эпоху. В какое время изобразил героя Владимир Мирзоев, понять сложно. Мамаша Глумова строчит клеветнические письма на печатной машинке, человек Мамаева появляется в лакейском камзоле, а сам барин носит современный деловой костюм.
Здесь вообще намешано немало нелепицы. Порой она смыслово оправдана, но чаще представляет собой эффектную стилизацию. Владимир Мирзоев характеризует очередной свой спектакль как постмодернистский. Если судить о постмодерне по данной постановке, может создаться мнение, что этот термин объединяет мужика с плеткой, мусор на сцене и слова из либретто какой-нибудь оперы, вложенные, будто бы невзначай, в уста героя. Нагромождение неврастенических танцев, безумных интонаций и безмерного количества реквизита было бы даже забавным, если бы не оказалось настолько вторичным. Все это видеть уже приходилось — и у самого Мирзоева, и у его коллег. Желание впечатлить публику ведет, как правило, одной дорогой.
Отсюда и такая схожесть спектаклей — даже в сценографии. Левый портал продолжает стена с ржавыми разводами и вмонтированными скобами, по которым задорно взбираются герои. Скобы то ли перекочевали из мирзоевского «Дракона» вместе с художницей Аллой Коженковой, то ли из «Зойкиной квартиры» Серебренникова. Но, хоть и правда на стену лезь, оригинального ничего не выходит. Практически во всю поверхность сцены сооружен деревянный настил. Открыв в нем люк, Глумов может принять душ, не намочив пола, зато эффектно намокнув сам. Справа от настила — концептуальная куча стружки, символизирующая, видимо, распил бюджета карьеристами и лицемерами (тем более, что добрую половину первого акта актеры активно орудовали пилой).
В вечную неизбывность подлецов, глядя на этот вертеп, верится с ходу. Жорж Глумов не только целует ручку благодетелю Крутицкому, но и подобострастно облизывает. Голутвин, требовавший у главного героя выкупа за ругательную статью, внезапно обращается одной из приживалок Турусиной. В мире лицемерия все очень зыбко.
В высокую комедию века XIX входит эстетика дня сегодняшнего, что-то из мира рекламы, афиш, глянцевых обложек и эксплуатации темы сексуальности. Все это — инструменты, которые приравнивают зрителя к потребителю. Но зачем понадобились эти ухищрения, если спроецировать действие пьесы на сегодняшнее время — проще простого, как уверяет сам режиссер? Постмодерн в данном случае, скорее, не концептуальная характеристика, а прикрытие аляповатой бессмыслицы.
На финальном прогоне сыграли все составы. Мы увидели двоих Глумовых, двоих Мамаевых, троих Крутицких и Городулиных. Герои меняли лица, сохраняя костюм. Сам Мирзоев выдвинул предложение играть таким образом каждый десятый спектакль. Идея хороша — сумбурность, накручиваемая действием, от этого зашкаливает, а происходящее на сцене можно оправдать коллективным бредом.
«На всякого мудреца довольно простоты»


