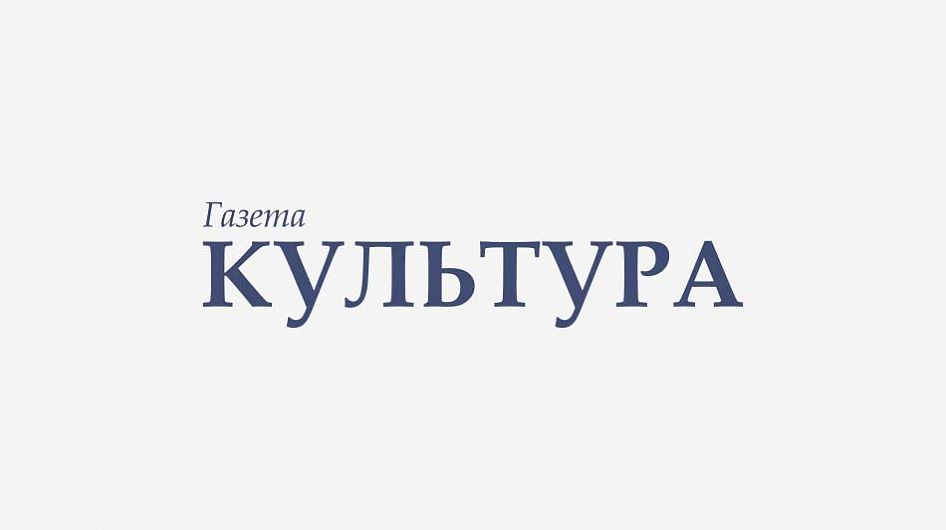
Вечера тихие и не очень
Чеховский фестиваль принял в свои объятия два знаменитых театра Лондона. Старейший «Сэдлерс Уэллс» показал «Тихий вечер танца» Уильяма Форсайта, его младший собрат — «Английский национальный балет» — представил «Жизель», сочиненную Акрамом Ханом.
Пластическая речь Уильяма Форсайта самобытна и описаниям упрямо не поддается. «Деконструктор, изучающий возможности человеческого тела», «структуралист, испытывающий танцовщиков на прочность» — такие рассуждения перелетают из уст в уста, кочуют из статьи в статью. Возможно, однообразие этих, бесспорно, правильных мыслей поднадоело лукавому хореографу: «Хотите разобраться в моих головоломках? Пожалуйста, я раскрою тайну». И создал «Тихий вечер танца», где открыто, на наших глазах, складываются пазлы фирменных форсайтовских конструкций.
Пригласил артистов, с которыми много работал, — тех, кто свободно владеет его лексикой. Они действительно назубок знают все па из каталога движений, составленных дерзким живым классиком несколько лет назад. Всю семерку исполнителей гуру объявил своими соавторами — спектакль рождался из общей импровизации.
В первом действии «Тихого вечера», собранного из соло, дуэтов, ансамблей, музыку решили не тревожить, не потребовались и декорации, отмели облегающие фасоны костюмов и «вторую кожу» трико, подчеркивающих красоту линий тела. На исполнителях — тренировочные штаны, повседневные футболки и... яркая колористическая деталь, акцентирующая внимание зрителей — мягкая обувь или длинные перчатки плакатно-ядовитых цветов: красного, фиолетового, желтого. Начало — дуэт «Пролог» под еле слышные шорохи, скрипы, далекий щебет птиц.
Вторая зарисовка — «Каталог» — идет в полной тишине. Опытные танцовщики — рыжеволосая Джил Джонсон и бритоголовый с седой бородкой Кристофер Роман стоят рядом, лицом — к публике, ноги — на ширине плеч. Руки вычерчивают вдоль и поперек туловища линии и круги, выстреливают стрелами и сгибаются, касаясь разных точек тела. То в идеальном синхроне, то умышленно расходясь, чтобы вновь соединиться в сумасшедшем вращении, от которого готовы вылететь локтевые и плечевые суставы. Подключаются плечи, затем — шаги, наклоны, повороты. Темп нарастает, ритм дыхания учащается. Ювелирное мастерство исполнения делает самые элементарные и даже бытовые (ладонь у уха, словно в ней зажат мобильник, или кисть, обхватившая плечо) па завораживающими и гипнотическими. Мелькнули — классическая поза экарте, плие, прямая спина, четкая вертикаль — и улыбнулся Мариус Петипа; свободно вздохнули руки, тело склонилось, потеряло равновесие, сбив прямой угол с горизонтом сцены — привет Баланчину. В фрагменте «Каталог» проще всего осознать, как трансформирует хореограф само движение, от единых канонических элементов — к высокой классике, от нее — к образцам модерна и собственным аналитическим модулям. Все они связаны единой корневой системой. Важно расслышать перекличку времен и стилей, почувствовать, как радикальная урбанизация не отметает, а регулирует призрачные романтические миражи, ракурсы, правила. Танец Форсайта выходит в иную вселенную, в принципиально новую реальность, не сжигая мостов с традициями. Кого-то из зрителей постигло разочарование — скучной показалась демонстрация элементов и деталей, из которых рождаются сюжеты и складываются события, хотя сам Форсайт и от того и от другого открещивается.
Завершали первое действие вариации «Эпилога» с крохами фортепианного минимализма и мужской «Диалог» под природно-птичье придыхание. Бьющая через край витальность и поразительная многовариантность траекторий и форм в пространстве, когда походка, пробежка, прыжки могут раскрыть нрав и характер. Танцовщиков переполняют внутренняя радость и открытое наслаждение, они не стараются преподнести себя, понравиться простой публике и VIP-гостям (их на «Тихом вечере» собралось немало), просто веселятся и болтают на своем языке, которым мы очарованы, но едва ли понимаем во всем его абстрактном совершенстве.
Пасьянс «сошелся» во втором действии, к которому добавили музыку Рамо. Родные позы классики, жеманная манерность старинных балов, первобытный инстинкт пляски прорастают сверхскоростью, складываются в знаки-матрицы, оборачиваются интеллектуальными шарадами. Умные тела исполнителей мыслят танцем — с наивной безоговорочной верой в его совершенство и изрядной долей самоиронии. Есть среди них курд Рауф Ясит, к имени которого добавлено — «Резиновые ноги». То, что проделывают его гуттаперчевые конечности, описать невозможно: правая стопа вдруг оказывается за шеей и кивает с левого плеча, а длинные руки обхватывают все туловище. Для разработки алгоритмов Форсайту понадобятся и эти изощренные акробатические фокусы уличного брейка.
Название финала «Тихого вечера» зашифровано — «17/21». Быть может, это порядковые номера сочинений — хореограф использовал в композиции фрагменты своих ранних работ. Или обозначение веков? В XVII родился композитор Жан-Филипп Рамо, чья барочная музыка понадобилась великому Форсайту в XXI столетии, когда он оторвался от виртуальных инсталляций и вновь вернулся к сочинению танцев не для воображаемых мультимедийных фигурок, а для живых артистов.
«Жизель», отмеченную премией Лоуренса Оливье (самой главной театральной наградой Великобритании), ожидали с нетерпением особым. С хореографом Акрамом Ханом у москвичей связаны немногие, но яркие впечатления, например, небольшой балет в программе «Жизнь продолжается», которой прощалась со сценой Сильви Гиллем. Магическая пластика строилась на пересечении европейских и восточных традиций, что не случайно: Хан родился в Лондоне, куда его родители переселились из Бангладеш. Историю своего рода он не забывает — с детства серьезно постигал философию и технику индийского танцевального стиля «катках». Его основа — ритмические притопывания и стремительные пируэты — придают особый аромат самобытной лексике, основанной на смешении модерна и классики. Внимание публики подогревал и хрестоматийный сюжет, перенесенный в мегаполис наших дней. Теперь Жизель вовсе не пейзанка, а мигрантка, а сам спектакль из канонической истории балетного романтизма 1841 года рождения превратился в социальное высказывание. Хореограф одарен редким талантом сочинять ясные и внятные послания, не нуждающиеся в вербальной помощи.
Открывается занавес, и сценическая картинка заставляет вздрогнуть: в полумраке люди отчаянно бьются об стену — массивную и неприступную — в тщетных попытках ее сдвинуть. На ней — отпечатки их ладоней. За стеной — швейная фабрика, где они трудились, пока производство не закрылось. Мигранты оказались на улице, их дешевая рабочая сила уже не востребована. Враждебная стена — зримая метафора непреодолимого барьера между двумя мирами и теми, кто их населяет: «изгоями» и «знатью» (такие определения предлагают авторы). Им никогда не понять друг друга. Жизель и Альбрехт — из разных кланов, и потому их любовь обречена. Двоемирие, столь милое балету, выражено и пластически, на эмоциональном контрасте.
Толпы несчастных в серых заношенных одеждах метеорами носятся по сцене, кружатся в каких-то шаманских наваждениях, в движениях — отчаянный экстаз и горячечное исступление. Пришельцы из мира знати (семья Альбрехта и ее приближенные) в роскошных платьях с кринолинами, цветных сюртуках, блестящих плащах — по моде давно ушедших лет — не танцуют, а несут себя — медленно, чинно, уверенно. В их картинной сосредоточенности — издевательский гротеск и брезгливое ощущение инфернальной перспективы тех, кто торопливым потоком пересекает сцену. Судорожные перемещения изгоев иногда прерываются напряженными, смысловыми, почти мхатовскими паузами — тогда они застывают в ритуальных позах, с поднятыми вверх руками, уступая место главным героям. Жизели с Альбрехтом подарен нежнейший утонченный дуэт, за которым наблюдает влюбленный в героиню мигрант Иларион. Завязывается драка и танцевальная схватка двух мужчин. Буйная энергия буквально раздирает действие и держит публику в нешуточном напряжении. Одна из самых сильных сцен — смерть Жизели. Изгои тремя плотными кольцами окружают бездыханное крошечное тельце, лихорадочным вихрем вьется тесный хоровод, поднимая на своих волнах, как соломинку, жертву доверчивой любви.
Второй акт — еще более мрачный. Над сценой бетонным потолком повисла стена, на ней и под ней — души замученных непосильным трудом и голодом работниц фабрики. Эти фурии мстят безжалостно и совсем не похожи на невинных невест, умерших до свадьбы. Их предводительница Мирта совершает над Жизелью колдовской обряд — для того чтобы стать виллисой, ей надо подняться на кончики пальцев, а она как назло все время с них падает на полную стопу, и получить сакральную бамбуковую трость — символ расправы. Тонкое жало пронзит тело Илариона. Любимого Альбрехта заслонит Жизель. Здесь фабульных расхождений с далеким первоисточником не наблюдается. Высокорослые бестии с распущенными волосами, в рваных платьях, пугают ритмической дробью пуантов, дрожащими руками, растопыренными пальцами, какой-то языческой архаикой. Иногда хореограф выстраивает рифмы со старинным спектаклем. Сцена, в которой линии виллис в арабеске (эта поза — лейтмотив танца дев загробного мира) прыжками приближаются друг к другу, словно сбрасывает прах романтических галлюцинаций и наполняется зловещей мистикой. Ей вторит жесткий саундтрек композитора Винченцо Ламаньи с цитатами из Адольфа Адана. Заводские гудки и стук колес приближающегося поезда, скрип станков и жалобные всхлипы, погребальная мелодия и долгие паузы, бурные соло ударных и ледяная медитация духовых.
На вершине восхитительного ансамбля исполнителей, в котором, кажется, и кордебалет состоит только из харизматиков, — Алина Кожокару, одна из самых ярких звезд начала XXI века. Милая, гордая, взволнованная девочка к финалу превращается в нервную, горестную и беспощадную мстительницу, карающую слабовольного Илариона (Джеффри Сирио убедительно пытается оправдать своего героя, заискивающего перед «знатью»). Щемящий финальный дуэт Жизели и Альбрехта (старательный Исаак Эрнандес) соткан из тончайших психологических импульсов, неотразимо обаятелен и полон непомерной ускользающей красоты. Прелестная нелогичность прикосновений и тайные воспоминания о коротком счастье. Жизель спасает любимого, вставая на пути блистательно-гневной Мирты (Стины Квагебер) и, быть может, напрасно — в финале он становится выброшенным из клана изгоем, одиноким в своем безграничном раскаянии. Страшный, пронзительный, тонкий спектакль о потерянных судьбах и обезумевшем времени. Хореограф сумел поднять очень конкретные, злободневные и подробные сюжетные перипетии до общечеловеческой трагической темы жизненного краха и сиротства на разобщенном пространстве вражды и яростного непонимания.
Фото на анонсе: Bill Cooper


