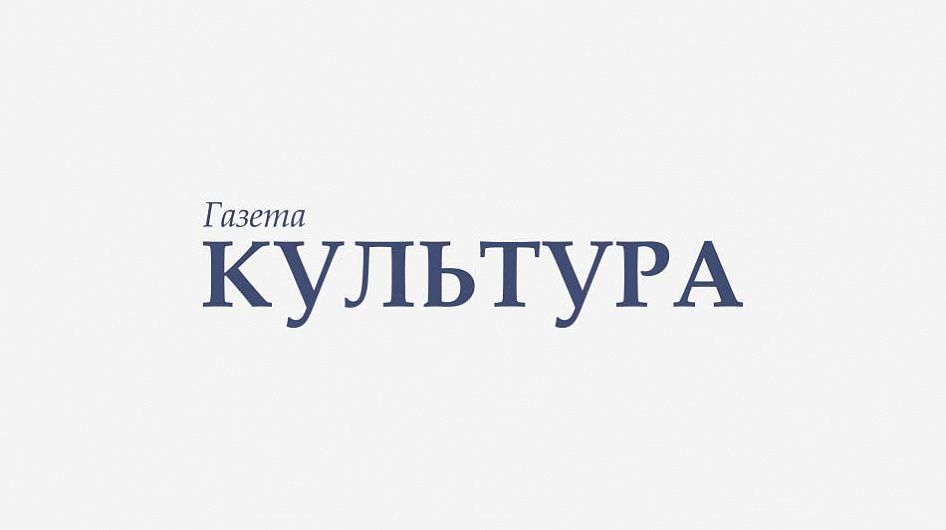
Сергей Хачатуров, историк искусства: «Главной целью акционизма была эмансипация человека, высвобождение его природной энергии»
Что такое акционизм и как он возник? Об этом рассказывает Сергей Хачатуров, доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа.
— Сергей Валерьевич, почему вообще в какой-то момент художник перестает создавать нечто станковое, смещаясь в область экспериментов с телом в реальном времени? Из чего возникла потребность в искусстве действия?
— Из-за недоверия к понятию автономности эстетического объекта. Причем эту автономность начали подвергать сомнению уже авангардисты первой волны, с которых, по сути, и берет начало первый акционизм. Вспомним хотя бы дадаистские и сюрреалистские скандалы со всей этой стрельбой, драками и прочей нарочитой агрессивностью. Или вспомним футуристов, которые начали выходить раскрашенными на улицы и даже оставили манифест «Почему мы раскрашиваемся». Так, через эксперименты с изменением собственной телесности они хотели вернуться к честности и непосредственности высказывания, отсекая тот груз культуры, который этой честности препятствовал.
— А что эти художники подразумевали под непосредственностью в данном случае?
— Здесь можно вспомнить средневековый опыт мистерий или первобытную культуру. По сути, речь идет о низовой, уличной, фольклорной, карнавальной традиции, как ее описал еще известный советский историк литературы Михаил Бахтин.
Главная идея искусства действия — идея акционистов «первой волны», — это непосредственное переживание мощного коллективного вовлечения, не ограниченного теми удушающими условностями, которые закрепостили искусство XIX века. Они провозгласили искусство быстрого возникновения и исчезновения, подобно театральному или музыкальному перформансу. По сути, акционисты были предвестниками синтеза искусств, или идеи мультимедийности, которая в современном искусстве стала мейнстримом.
Если же говорить о послевоенном акционизме, конца 1950–1960-х годов, то их повестка несколько расширилась. Их действия были направлены против механизмов социального подчинения, против лжи официальной культуры, преступно скомпрометировавшей себя во время Второй мировой войны. Прежде всего, это, конечно, знаменитые венские акционисты, например Отто Мюль или Герман Нитч, с их телесными акциями.
— Давайте сразу уточним: когда вы говорите о критике автономности, то речь идет о том, что нельзя сводить искусство к одному лишь ремесленному процессу, что искусство должно выйти за пределы салонов и музеев?
— Не совсем. Автономность — это эстетическая категория, которая обсуждалась еще в немецкой классической философии. Это категория, указывающая на самодостаточность произведения искусства, которое подчинено своим законам восприятия и интерпретации. Однако с течением времени эта эстетика стала «цветником» для любителей изящного, а потом этот «цветник» превратился в «теплицу», в которой стало просто трудно дышать, на что, собственно, жаловались тогда очень многие художники.
Другими словами, искусство тогда окончательно утратило свою связь с жизнью. Вспомните, с чего начинается чеховская «Чайка», когда Константин Треплев затевает свою символистскую драму с мировой душой и дьяволом, а Ирина Аркадина на это реагирует такими словами: «Серой пахнет». Вот это ощущение духоты — запах серы — не устраивало первых авангардистов, как и художников второго модернизма.
Однако акционизм «второй волны» вышел за пределы критики одного только искусства и занял более отчетливую общественную позицию. Помните знаменитую фразу немецкого философа Теодоро Адорно: «После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование»? По сути, Венская школа реагирует именно на нее, подвергая критике автономность художественного высказывания, но уже на фоне того ужаса, который пережил мир — того полного провала гуманизма, который произошел во время Второй мировой войны.
Венские акционисты начали резать картины — это был акт неповиновения уже сложившемуся языку искусства. Ведь возвышенное созерцание искусства стало безнравственным в послевоенном мире. Но то был только первый шаг венских акционистов.
Вторым шагом стала деконструкция механизмов социального подчинения. Отсюда их эксперименты с собственным телом — все эти порезы, увечья, пропитанные ощущением отвращения к собственному телу, как к «винтику» в машине социального насилия. Тело, считают акционисты, во все времена выступало объектом, которым манипулирует общество, государство, имперский порядок.
Поэтому, когда Герман Нитч или Отто Мюль устраивали оргии, заставляя вспомнить культы язычества и мистерии барокко, то это была попытка разорвать отношения вассалитета по отношению к сложившемуся порядку. Тело, считали они, должно быть свободным от пут общепринятой морали — куда более репрессивной, чем сами эти оргии.
Язык акционизма не имеет ничего общего с традиционным языком искусства, потому что он действие быстрого реагирования, яростная жестикуляция в социальном политическом пространстве. Это искусство, которое выплескивается наружу. «Улицы — наши кисти, площади — наши палитры», как говорил еще Владимир Маяковский. Так искусство взяло на себя миссию бунтарского движения. И в этом его сила, как и его слабость.
— Получается, что акционизм — это в каком-то смысле продолжение идеи Жан-Жака Руссо о «естественном человеке» — человеке, не искаженном цивилизацией?
— Эта связь, конечно, есть. Тем более что Руссо был знаменем первой буржуазной революции, направленной против феодализма. Но если говорить о корнях акционизма, то это и идеалы «естественного человека», и русский, мировой авангард, и итальянский футуризм, и театр жестокости Антонена Арто — то, что в современном сленге обозначается как «хтонь», как нечто неподотчетное конвенциональным системам коммуникации и возвращает первобытную доиндивидуальную энергию.
Главной же целью акционизма была эмансипация человека, высвобождение его природной энергии. То есть акционизм опосредован еще и фрейдизмом. Это своего рода психоаналитическая терапия: мистерии акционизма — это попытка раскрепоститься и таким образом излечиться от накопленных за века цивилизации проблем. Поэтому все акции, которые проходили в те же 1960-е годы, во многом способствовали эффекту отстранения: они позволяли обществу посмотреть на себя честно, увидеть как светлые, так и темные стороны своей природы.
— Мы всегда говорим, что акционизм — это про шок, про «пощечину общественному вкусу». Понятно, зачем это делается, но есть ли у этого желания шокировать некий предел? Иными словами, есть ли что-то святое для акционизма?
— Как говорил Остап Бендер: «Я чту Уголовный кодекс». На мой взгляд, эти пределы очерчены именно им. Предел же этический и эстетический каждый художник всегда определяет для себя сам, и никто не вправе вмешиваться в этот процесс.
— В таком случае, не возникает ли здесь зашитого в акционизм лицемерия? Ведь, с одной стороны, он, как вы сказали, пытается вернуться к первобытному в человеке, к той наивности, которая исчезла в громе цивилизации. А с другой — художник обязан принять границы Уголовного кодекса.
— Здесь мы сразу же выходим на глобальный вопрос о том, что такое искусство как таковое. Понятно, что, сколько бы мы ни заявляли о своем желании быть первобытными, мы никогда объективно не достигнем этого. Поэтому в случае с акционизмом, как и с любым другим вида искусства, мы имеем дело с попыткой через мистерии, через обращение к наивной первобытной культуре разобраться прежде всего с самими собой, а не осуществить буквальное возвращение к жизни далеких предков.
Вектор по направлению к первобытности — это именно условная установка внутри художественной системы. Ведь находясь на территории искусства, мы ни на секунду не должны забывать, что перед нами условная система языка, которая не претендует на реальность. Любая художественная система всегда работает с условным языком, начиная с иллюзионистической живописи и заканчивая теми же действиями акционистов.
— Но выходит, что, разрушив те условности, которые нагромоздила культура XIX века, акционисты заместили их своими новыми условностями.
— Это совершенно нормальная практика для любого нового направления в искусстве. В этом нет никакой проблемы. Любой большой художник выстраивает свою систему языка. Даже знаменитые русские иконописцы XIV–XVII веков действовали как настоящие революционеры по отношению к принятому на тот момент канону.
В этом смысле на обнулении прежней системы изобразительности выстроена вся динамика развития искусства как такового. По-другому оно просто не живет. В случае с художниками действия это обнуление было связано с новым переживанием собственной телесности, тренингом психики, медитативными практиками и с постоянным вызовом общественным вкусам.
— Недаром, кстати, практики акционистов сравнивают с тем, что делали христианские юродивые.
— Это действительно так. Подобные экстатические практики во многом наследуют традиции средневекового юродства. Но, кстати, именно юродство в Средние века понималось как зеркало, в котором отражаются все самые больные проблемы общества или правителя. Отражаются рельефно, гротескно, но при этом тоже ведь в целях терапии.
Не случайно короли окружали себя шутами и блаженными, которые имели право говорить им всю правду в лицо, в отличие от придворных. Это тоже была своеобразная терапия власти. В этом, возвращаясь к базовым смыслам акционизма, во многом заключена его цель. Акционизм не пытался совпасть с первобытностью, а пытается сбросить груз во многом фальшивой канонической, догматической культуры, как и груз лицемерия светского общества, чтобы вновь научиться говорить о самых сокровенных и тревожных сторонах человеческой жизни.
— Вы сказали, что сила и слабость акционизма в том, что это искусство социального, бунтарского характера. О силе мы поговорили. А в чем слабость?
— Критические зоны акционизма, на мой взгляд, кроются в том, что эти практики ограничены во времени и пространстве и живут, как спектакль, то есть только во время своего воплощения. Акционизм — это то, что нельзя пережить, не будучи вовлеченным в реальный процесс общения. И вот эта кратковременность, на мой взгляд, — самая уязвимая часть практик «искусства быстрого реагирования». Она ограничивает его возможность работать со смыслами на длительных дистанциях.
Но есть и еще одно важное следствие этой кратковременности. Чтобы «зацепить» потенциального зрителя на эти несколько мгновений, художник в любой момент может соскользнуть с позиций подлинного искусства — поддаться искушению и воспользоваться самыми популистскими ходами, чтобы получить «хайп».
Можно сказать, что акционизм всегда находится на грани: он обязан балансировать между деструкцией, нигилизмом и новым опытом свободы, между хайпом массовой культуры и выстраданным индивидуальным высказыванием. В этом балансе заключена вся виртуозность этого искусства: ты должен оставаться художником яркого плакатного действа и при этом быть тонким человеком, не совпадая с популизмом. К сожалению, не всем эта виртуозность дана.
— Выходит, что акционизм все время находится на этой тонкой грани между «хайпом» и искусством действия. А как отличить их друг от друга?
— Для примера можно вспомнить «лихие 90-е», которые ведь очень раскрепостили творческую энергию многих людей. Оказавшись в этом хаосе, в этом безвластии, человек мог воспользоваться им как для того, чтобы поворовать, так и для того, чтобы реализоваться как художник. Вообще, именно в такие периоды турбулентности художник в каком-то смысле начинает даже замещать собой власть.
Отсюда и рождается по-настоящему умный акционизм — такой, который мы встречам, к примеру, у Олега Кулика, который на Роттердамском фестивале 1996 года окончательно взошел на олимп contemporary art как художник-акционист. Он как раз использовал эту стратегию обнуления, которую мы обсуждали выше, чтобы изобличить фальшивые традиции изобразительных систем, став «естественным существом», то есть тем самым «человеком-собакой».
Собственно, сама эта акция сработала именно потому, что внутри нее был зашит парадокс, сложная перекодировка, ведь сам Кулик известен как очень сложный тонкий художник, и потому его появление в образе собаки обеспечило настоящий аффект. В этом плане Кулик наследовал и практикам юродивых, и естественному человеку Руссо.
Но есть и обратный пример — Петр Павленский. В начале, на мой взгляд, он был интересным явлением в акционизме. Он напоминал какого-то средневекового бродячего актера — с вытянутым лицом и рельефными скулами. И перформансы словно иллюстрировали древний назидательный трактат о смертных грехах. Но потом он сам же себя дискредитировал, потому что пошел по пути эскалации насилия в ущерб смыслу. И то, что в конце концов произошло с ним во Франции, когда он поджег банк, было уже, по сути, отказом от акционизма, потому что эта акция была абсолютно тавтологичной — в ней уничтожался смысл, на юродстве нельзя спекулировать.
— В таком случае что не так с акционизмом сегодня? Почему подобные акции, кажется, больше не являются главной стратегией современного искусства ни в России, ни в мире?
— Здесь несколько факторов. Во-первых, акционизм, как я уже сказал, это искусство отдельных периодов. Он востребован как вспышка в те моменты, когда возникает потребность активизировать общество или высветить в нем какие-то скрытые проблемы, чтобы этот негатив вышел наружу, а не превращался в коллективный невроз. Так было в начале XX века, так было после войны, так было и в России в 1990-е годы.
Во-вторых, думаю, что свою роль сыграло возрождение правой риторики, которая становится все более популярной во всем мире, в то время как акционизм, конечно, близок именно левой повестке. И то, что акционизм стал столь тавтологичен и многие акционисты не смогли выдержать этот баланс, во многом связано именно с реставрацией правой идеологии. Все же правая идеология — с навязываемой ею простотой иллюстрации косных догм — плохо совместима с творчеством и искусством как таковым.
Наконец, в-третьих, свою роль сыграло распространение социальных сетей и формирование нового поколения — я имею в виду так называемых «зумеров». Та виртуальная реальность, в которой это поколение теперь живет, конечно, просто вытесняет акционизм. Сегодня, увы, человечеству интересна не глобальная объединяющая идея с яростной жестикуляцией и искусством прямого действия, а сети микросообществ, в которых каждый пляшет и мило-мимишно кривляется на потеху другим подписчикам того или иного канала или блогера.
Фотографии: www.pbs.twimg.com, www.sobaka.ru.


