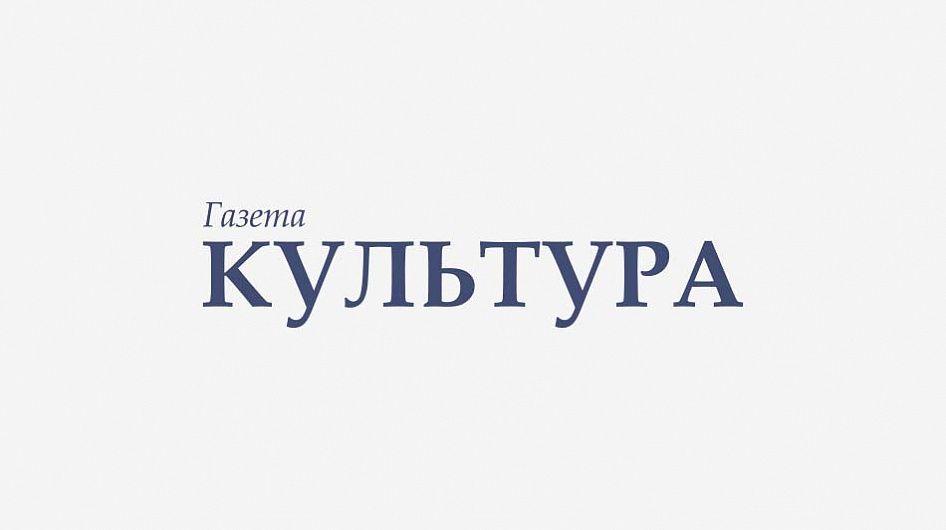
Сергей Никоненко: «Михалков увидел, что я хожу по деревне босой, сказал: «Серега, ты дозрел!»
16 апреля Сергею Никоненко исполняется 75 лет. Сыграв 220-ю роль на экране, истинно народный, по-юношески азартный артист не спешит подводить итоги.
культура: Над чем работаете?
Никоненко: Играю тренера паралимпийского чемпиона в картине «Со дна вершины» Яны Поляруш. Участвую в антрепризах, выступаю с есенинскими моноспектаклями, готовлюсь к творческому вечеру в Доме кино. Год назад занял пост президента актерской гильдии Союза кинематографистов, но успехами похвастаться пока не могу. Считаю, гильдия должна решать не только житейские, но и творческие вопросы, влиять на кинопроцесс. Конечно, если режиссер не хочет взять артиста, никто его не заставит, но нам нужно предлагать постановщикам сценарии и актеров. Если не устраивает — вызывать следующего.
культура: Вы боец, и Ваша биография с первых же страниц напоминает военный роман. Сергея Никоненко можно назвать участником Великой Отечественной?
Никоненко: Я родился в центре Москвы, а через два месяца, 21 июня, папа отправил нас с мамой на малую родину — под Вязьму. Только добрались, началась война. Нужно было немедленно выезжать обратно, а мама верила, что отразим агрессора малой кровью, могучим ударом, и задержалась. Но, как говорил Василий Теркин: «Немец был силен и ловок, ладно скроен, крепко сшит, он стоял, как на подковах, не пугай — не побежит!» Спустя пять дней Москва была закрыта, попасть туда можно было только по вызову. Отец ушел на фронт, в столице нас никто не ждал. Так и остались у родственников. В середине октября в село вошли немцы. У нас поселились автомеханики, резали гусей, а кур не трогали — любили сырые яйца.
Фашистов отбросили, прошел слух, что в соседнюю деревню вернулась советская власть. Спеленав меня, мама махнула туда и встретила друга отца по охоте — секретаря райкома, командира партизанского отряда Ивана Наумовича Петракова. Он сказал: после Нового года будем вас переправлять на Большую землю. До самой весны мама оставалась в партизанском отряде — обшивала, перевязывала, готовила.
В конце марта появилась возможность перейти линию фронта, командир махнул рукой на дальний лес — кто первый? Мама и я на плащ-палатке от воронки к воронке поползли вперед. Нас заметили, открыли минометный огонь. А когда выбрались к своим, с ней пообщался особист. Выписанная Петраковым бумага его не впечатлила, и потом от мамы долго не отставали. В 43-м отца ранили, а поскольку ему уже исполнилось сорок пять лет, его перевели в пожарную охрану. Отец вызвал нас в нашу коммуналку на Сивцевом Вражке. Служил он в пожарной части на Собачьей площадке за Театром Вахтангова, мы ходили к нему за керосином, иногда заглядывали в Филипповскую церковь на Арбате. Я запомнил там одну слепую бабушку. Много лет спустя ее прославили как Матрону Московскую. Оказалось, с 1942-го она прожила восемь лет в Староконюшенном переулке. Кажется, с утра до вечера сидела в храме слева от входа, к ней было не пробиться. Помню Пасху 1945 года, откуда-то взялись куличи... Из чего — не знаю, но и мне дали крохотный куличик и три яичка. Я замешкался и поставил на длинный стол свой узелок. А батюшка замахнулся кропилом и как рявкнет раскатисто: рразвяза-ать!
культура: Что сформировало Ваш характер?
культура: Девочка. Нет, вру, сцена. В первом классе мама будущего поэта Саши Тихомирова выбрала меня и еще шестерых ребят изображать Петрушек: «Тили-дили-динь, пришел Петрушка, тили-дили-динь, как весел я, тили-дили-динь, вот моя погремушка, а на ней бубенчики звенят!» Придуривался слегка — все в одну сторону топают, я — в другую, а она сказала, что выступал лучше всех. Праздновали Новый, 1950 год, я был самым маленьким в классе, и меня выбрали Снегурочкой: паричок, косички, пальтишко, юбочка, подрумянили щечки. Встречал гостей, все удивлялись: ах, откуда такая замечательная девочка? Никто не узнавал. Потупившись, пищал: я из соседней ськоли...
Но праздники были редки. Можно сказать, я вырос на помойке. Да не на простой, а на мидовской. Чтобы добраться до нее, приходилось помогать дворнику чистить снег, и за это он открывал волшебный сарай с громадными тюками, набитыми конвертами с марками...
культура: Вы могли стать подпольным миллионером!
Никоненко: О таком счастье в те годы не мечтал. Приходил домой с оттопыренными карманами, на пар΄у пинцетиком — не дай Бог оторвать зубчик — добывал сокровища. Весь мой стол был забит марками. Хотел девочку в кафе пригласить — бежал в «Филателию» к Бородинскому мосту.
культура: Самые дорогие экземпляры?
Никоненко: Тогда только прошла коронация Елизаветы II. Двенадцать разноцветных марок с ее изображением назывались серией, их у меня было немерено! Серию меняли на протекторат, два протектората — на одну колонию. Африка котировалась высоко: Берег Слоновой Кости, Нигерия, Мадагаскар. Больше всех стоил фашистский Парагвай. А потом обменял все свои «протектораты» на коллекцию марок первых лет советской власти. Они пользовались за рубежом сумасшедшим успехом. Бывало, отстану от делегации, загляну в тамошнюю «Филателию» — отрывали с руками...
культура: Вы человек азартный?
Никоненко: Да, играл в покер, много выиграл и решил завязать в 1973 году. Главной страстью с детских лет все-таки был театр. Я нашел чью-то контрамарку, подделал ее и стал ходить бесплатно в Театр Маяковского. Но больше всего любил спектакли в Вахтанговском. Главным кумиром был Николай Олимпиевич Гриценко — равного ему не знаю, хотя видел в Малом «Дачников» и «Браконьеров» с Борисом Бабочкиным и Михаила Романова в «Живом трупе».
Они были друзьями со студенческих лет, читал их переписку — хохотал до слез. Миша писал Боре: «Утвердили на роль Феди Протасова, и у меня буквально открылось второе дыхание, я заболел Толстым!» А тот в ответ: «Оставь немедленно эту затею, ты не можешь играть Протасова, ты же интеллигентный человек, у тебя нулевой темперамент!» Романов сомневался: «Ах, Боря, вот уже пятая репетиция, и режиссер убеждает, что у нас все получится». Когда о спектакле зашумели, Бабочкин отговаривался: «Ноги моей не будет, я слишком люблю тебя, чтобы видеть твой позор!» Но не выдержал — бочком пробрался в зал и прослезился: «Миша, ты — гениальный артист, ты совершил подвиг, меня осенило: Протасов же — «живой труп», это и есть нулевой темперамент!»
Это были фантастические люди, я мечтал прикоснуться к их миру. Увы, меня не брали ни в одно из четырех театральных училищ.
культура: Зато оценил Герасимов. Как ему удалось воспитать блестящую плеяду артистов?
Никоненко: Сергей Аполлинариевич был удивительно чуткий художник. Он часто вспоминал, какое потрясение испытал в 33-м году, посмотрев барнетовскую «Окраину», эту белозубую, озорную игру юного Крючкова. На Западе еще не было голливудской улыбки, а у нас была! Но главное — как там общались артисты, на каких нюансах играли! Вот эту искусную простоту, народность, Герасимов «увел» в «Семеро смелых» — фильму восемьдесят лет, а он смотрится на одном дыхании... Я «брал» его обширным репертуаром, но, вручая студенческий билет, он охладил мой пыл. Сообщил, что считает меня условно пригодным, и попросил избавляться от штампов.
Однажды Сергей Аполлинариевич пришел на курс и сказал: «Ребята, вы прекрасно играете, но еще лучше у вас получается просто разговаривать. Давайте попробуем импровизировать!» Мы начали болтать, и он гонял нас семь дублей (в кино редко делал больше двух).
культура: Щедрый на оттенки, скупой на приемы режиссер «Молодой гвардии» и отец «Дочек-матерей» — словно два разных человека. Получается, общение с молодняком настраивало его профессиональную зоркость?
Никоненко: Это так. Однако разный-то разный, но мы видели уже два новых «Тихих Дона», а к его шедевру никто и близко не подошел. Знаете, почему? Он восемь лет на двух курсах репетировал роман Шолохова! И вновь случилось чудо. На роль Григория Мелехова был утвержден Александр Шворин. Он играл в Театре Станиславского, занимал одну гримуборную с Петром Глебовым и предложил ему подработать на втором плане. Привел на пробы, посадил в уголке. Герасимов, репетируя, поглядывал на сорокалетнего «строгого юношу». Поинтересовался у ассистентки: что за артист? Та рукой махнула: да какой там артист, «кушать подано»! «Жаль, жаль, — бормотал Сергей Аполлинариевич, — уж больно глаза хороши!» И так раз пять, а в конце попросил загримировать Глебова Мелеховым.
Все смирились с капризом мэтра. На другой день группа была в шоке. Герасимов вспоминал, как поднимался к себе на второй этаж, а на него шагал, надвигался, словно туча, шолоховский Гришка. И за ним вся съемочная группа. Он прямо остолбенел — испугался, что «кушать подано» откроет рот и мираж растает. Потом хвалил: «Петя оказался хорошей обезьяной! Первую серию с моего показа считал, вторую редко к нему подходил, а вот третья, самая драматичная, — это целиком авторская актерская работа».
культура: А Вы хорошая обезьяна?
Никоненко: Девок я ловко разыгрывал. Звонил по телефону на 8 Марта и вальяжно, глуховатым баритоном интересовался: «Чем живете, обрели счастье в личной жизни или бедствуете в одиночестве?» Они моему «Герасимову» немало тайн доверяли, потом жутко обижались. Но быть обезьяной скучно. Играть ты совершенно не умеешь, ты живешь — вот высшая похвала для актера.
культура: В Вас мастер верил?
Никоненко: Еще как! Мой путь в профессию начался на севастопольской Графской пристани, в первый съемочный день картины «Люди и звери». Герасимов отменил съемки: актер Никоненко работать не может, он монументально заигрался! А роль в «Журналисте» Сергей Аполлинариевич писал уже специально под меня.
культура: Вы всю жизнь прожили на Арбате. Что он для Вас значит?
Никоненко: Я никогда не взялся бы восстанавливать квартиру первой гражданской жены Сергея Есенина Анны Изрядновой, ныне Есенинский культурный центр, если бы не соседи. В нашем дворе жил Пушкин, спустя сорок лет сюда же въехал брат Петра Чайковского, тут часто гостил композитор. На углу Арбата и Денежного переулка — Андрей Белый, этажом ниже — историк Соловьев и его сын, известный философ, к которому захаживал Лев Толстой. В доме справа останавливался Блок. Тут же за углом — Вахтангов, Нестеров. Сейчас у большинства Арбат ассоциируется с писателем второго эшелона Анатолием Рыбаковым. Ну и с Булатом Окуджавой.
культура: А у Вас на раскладушке ночевали Шпаликов, Задорнов и Шукшин...
Никоненко: Не от хорошей жизни... Кем был Василий Макарович по 65-й год? Бомжом! Через окно проникал во вгиковскую общагу, перекантоваться на свободной койке. Если выгоняли — шел ночевать на вокзал. Часто заглядывал на наш курс — перекусить, выпить... Лицом к лицу лица не увидать: то, что он великий писатель, я понял, наверное, самым последним, лишь в 67-м. Неординарный во всем — больше в творчестве, чем в жизни, — это был удивительно тактичный человек. Случалось, говорил: неловко перед твоими родителями — я, пожалуй, пойду, и уходил в ночь. На площадке Шукшина разглядеть было невозможно. В ходе съемок, если что-то отвергал из моих придумок, тут же объяснял почему. Увы, так уже почти никто не работает. Режиссеры просят: громче, тише, и все, что ни покажешь, — нравится.
В «Ленкоме» интересуюсь: чем занимаетесь? Отвечают: идиотничаем... Ставит «Идиота» Костя Богомолов: Аглае — за 60, Рогожину — под 80. Ах, как интересно и свежо! Богомолов высасывает все из пальца, лелеет лишь свою режиссуру и в упор не видит актеров. Мне с ним не по пути.
культура: Никита Михалков тоже восемь месяцев спал на Вашей раскладушке. Хорошо себя вел?
Никоненко: Всю коммуналку обаял. С благодарностью вспоминаю нашу кинематографическую молодость. Перед съемками «Спокойного дня в конце войны» он вывез меня в вологодскую деревню Ирхино и поселил у знакомого мужика. Вечерами мы выпивали под включенный магнитофон, я учился оканью, вологодской скороговорке. Приехал Никита, увидел, что я хожу по деревне босой, с девками и гармошкой, сказал: «Серега, ты дозрел!» Он очень тщательно работает с артистами. Бывает непросто — Михалков пробует много вариантов, просит показать разные отношения, ищет интонацию сцены. Его съемки — лаборатория, настоящий творческий поиск.
культура: Шукшин также был неравнодушен к экспериментам. Помню историю, как он послал Вас к костюмерам выбирать себе реквизит, а им велел не перечить. Надеялся, что догадаетесь, как должен выглядеть Ваш чудик из «Странных людей». Как арбатскому мальчишке удалось перевоплотиться в сельского интеллигента?
Никоненко: Я никогда от народа не отрывался. Каждое лето, начиная с голодного 47-го, проводил на Смоленщине в деревне Корнеево. Помню, мне дали с собой рюкзак крупы, которую там сразу продали, а меня посадили столоваться со всеми: щи — лебеда, хлеб — крапива.
культура: Главная роль Вашей жизни?
Никоненко: Есенин в картине Урусевского «Пой песню, поэт...», вот уже 45 лет Сергей Александрович меня не отпускает. Утвердил меня сам худрук творческого объединения Михаил Ромм. Он видел поэта при жизни и сказал: вот этот парень — вылитый Есенин. К его мнению очень прислушивались. Если в чем-то сомневался, советовался с лучшим другом Охлопковым. С легкой руки последнего во ВГИК и попал Шукшин. Ромм терялся: что за чудо? Парню уже 25, а «Войны и мира» не читал. Говорит: толстая книжка, некогда было, я директором школы служил. Что-то не сходится. Василий начал перечислять: а дрова достать, а наколоть, то да се... Охлопков сам был сибиряк, сказал: бери!
Но самым неожиданным открытием Михаила Ильича стал Тарковский, Ромм не уставал поражаться: как же я мог разглядеть в этом пижоне режиссера? Андрей и правда был натуральный фарцовщик — приносил во ВГИК джинсы, раскладывал на подоконнике в фойе первого этажа. Я приценивался: что за материя, как тряпка, без заклепок. А он шепелявил: «Пойские жинсы, пойские, без закьепок! Не берес? Ну и напасно, напасно!» Его долго не принимали всерьез, но всех поразило «Иваново детство». Вгиковцы снимали этакие ландринные пасторали типа «Мальчика и голубя», и вдруг увидели жестокую, мощную, мужскую драму.
культура: Приглашал сниматься?
Никоненко: Звал сыграть колокольного мастера в «Андрее Рублеве», а я ему: у тебя уже есть, лучше Бурляева разве Бориску найдешь? Он не унимался, резко перешел на вы: есть и другая роль. Я отрезал: другую не хочу! И Фому сыграл Миша Кононов. Сейчас понимаю: надо было соглашаться... Первые три картины Андрея — шедевры. Рядом для меня стоит только михалковская «Неоконченная пьеса для механического пианино», какая легкость от и до! Но любимым режиссером остается Шукшин, он и благословил меня на профессию.


