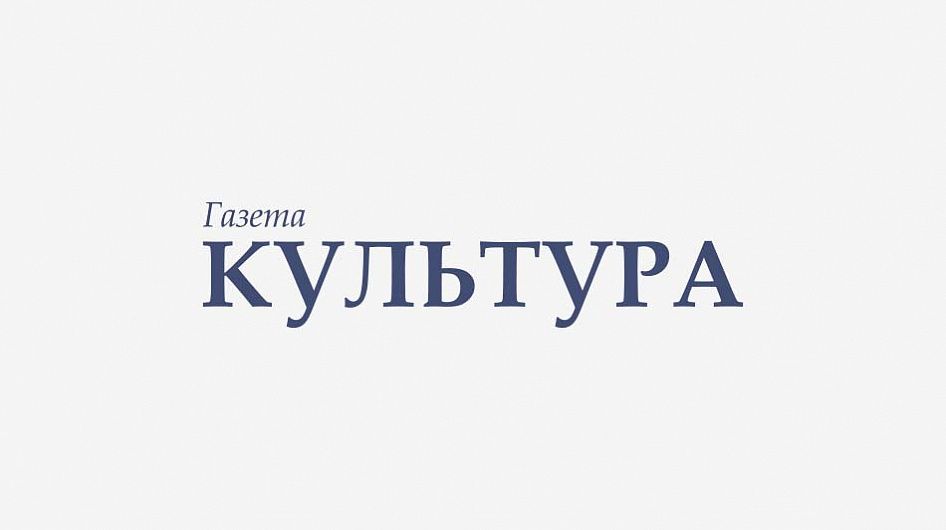
Нина Гребешкова: чучхе и чхоллима
У счастливой женщины Нины Гребешковой — юбилей. Сегодня возраст актрисы равен количеству воплощенных ею на экране образов. Хотя, нет, ролей, кажется, уже больше. Сама Нина Павловна считать их перестала. Да и режиссерам все больше отказывает. А вот вспомнить былое со спецкором «Культуры» согласилась. Тем более, что прошлое — это в том числе сорок лет совместной жизни с Леонидом Гайдаем.
Гребешкова: Сниматься я начала раньше, чем вышла замуж. На первом курсе ВГИКа. Моими партнерами были Грибов, Яншин, Ладынина... На занятия приходила со съемочной площадки, часто — прямо в костюмах, в которых играла. Педагоги были благосклонны. А вот товарищи... Нет, они ничего не говорили. Но все было написано на лицах. Вроде: ну зачем ей институт, и так ведь снимают. А Герасимов просто отчислил меня, заявив: либо сниматься, либо заниматься.
культура: Странно: сам-то в «Молодой гвардии» снял студентов. Как же восстановились во ВГИКе?
Гребешкова: Пришлось идти к ректору... Разрешили продолжить на другом курсе. Но, вообще, не переживала. Думала: значит, не гожусь. И готова была уйти в учительницы начальных классов, как мечтала в детстве.
культура: Что помешало поступить после школы в пединститут?
Гребешкова: Не что, а кто. Моя подруга Маша Луговская. В десятом классе она пригласила меня на день рождения. Маша жила в Староконюшенном, я — в Гагаринском. Пришла, а там — ее папа, известный поэт Владимир Луговской. Наверное, я что-то такое изображала из себя, потому что он вдруг подсел ко мне и спрашивает:
— Ниночка, а куда вы собираетесь поступать?
— Я буду учительницей.
— А не хотите стать актрисой?
— Ну что вы!
Мы ведь тогда актрисами могли только восхищаться. Милица Корьюс! Дина Дурбин!.. Куда мне, думала я. У меня даже ботинок не было. Словом, Луговской попросил Машу лично отвезти мои документы во ВГИК. Хотя, по большому счету, актрисой я стала благодаря своему папе...
культура: Он, кажется, не актер?
Гребешкова: В трудовой было написано: маляр. На самом деле — альфрейщик в артели. В Елисеевском магазине расписывал колонны, в Академии им. Фрунзе перед войной раскрашивал ордена. А дома играл на гармошке и пел русские песни. Часто после работы сажал меня рядом и начинал рассказывать:
Несет меня лиса
За те-емные леса...
За высо-окие горы.
Кот и дрозд, спасите меня!
Но некому было спасти петушка. Я рыдала — папа смеялся: надо же, все понимает! А было мне не больше трех лет...
Чуть позже в папином репертуаре появилась серьезная поэзия:
Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез...
Вдруг мужики с топорами явились —
Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц послушал — и вон побежал.
Я опять плакала. А когда мы бывали в гостях у моей крестной — тети Нюши, отец непременно ставил меня на стул, и теперь я должна была декламировать. Того же Некрасова, например:
Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой,
Ямщичок обратный...
Словом, путь мой в актрисы был скорее эмоциональным, чем рациональным. Я видела, как реагировали на мои выступления взрослые. Но понимала, что для простого человека актерство недостижимо — надо иметь сверхъестественный дар.
культура: А кем была мама?
Гребешкова: Мудрым, интеллигентным человеком. Воспитывала троих детей. У меня было два брата — старший Николай и младший Валя. Крестили меня в Храме Христа Спасителя. Я этого, конечно, не помню, но мама рассказывала, что холм, который потом срыли, был весь засажен фруктовыми деревьями.
культура: Вы уникальный человек. Немного осталось людей, крещенных в том, настоящем Храме Христа. А Ваше детство пришлось на войну...
Гребешкова: В 1943-м мы уже возвращались из эвакуации и в Кузнецке Пензенской области должны были сесть на поезд. Мама долго пыталась купить билет — нужно было дать десятку, а она не знала, как. Наконец, мальчишек посадила в вагон, а мне велела сторожить вещи. Потом меня как ребенка пропустили к поезду через здание вокзала, а мама должна была обежать вокруг. И сейчас картинка перед глазами: братья выглядывают из третьего вагона, я пытаюсь заскочить в шестой, проводница сбрасывает меня, я снова забираюсь на подножку. В это время бежит мама со швейной машинкой в корзине. Я спрыгиваю к ней. И поезд уходит...
— Господи, лучше бы ты уехала вместо них, — охнула она.
— Почему?
— Ты посообразительней, добралась бы.
Крепко я тогда обиделась на маму. К счастью, ребята благополучно доехали до дома. А вскоре вернулись и мы. Мама шила на «Зингере» бушлаты и морские штаны. Получала 150 рублей пособия на троих детей. А буханка хлеба стоила сотню. Папа в это время служил в охране поездов, был наводчиком пулемета ДШК. С фронта возил раненых, из тыла — танки, оружие. Время было голодное. Он присылал нам деньги, брикеты с жутко солеными кашами. Но для меня, как ни странно, тот период был одним из самых счастливых. Летом в школе был организован лагерь, и меня, мелкую, выбрали председателем отряда. Помню, идем по Садовому кольцу с песней:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!
Днем мы спали в школе на раскладушках, на ночь приходили домой. Зимой на большой перемене нам давали стакан чая, кусочек сахара и бублик. Чай с сахаром я выпивала, а бублик несла домой. Хотя есть хотелось беспрерывно! Он стоил 25 рублей. Четыре бублика — сто. Раз в четыре дня я шла на угол, продавала бублики, и мы покупали буханку черного хлеба.
В шестом классе начала вязать и по рабочей карточке получала 35 рублей в месяц за три кофточки... После войны стало легче. Папа вернулся в свою артель. Мама записалась в другую — прострачивать простыни.
культура: А Вы потом, наверное, спицы в руки не брали?
Гребешкова: Что вы, до последнего вязала. А еще шила, прибивала, циклевала полы, ремонтировала машину...
культура: О Ваших феноменальных способностях ходят легенды. Но Вы ведь сорок лет были замужем...
Гребешкова: Да, на третьем курсе вышла — талант Гайдая невозможно было не заметить уже тогда. Мы же с Леней учились на одном курсе. Я — на актрису, он — на режиссера. А у него и актерский талант был невероятный. На показах в отрывках играл так искрометно, что мастера — Пырьев, Барнет, Герасимов — умирали от смеха. Я сравнила бы его с Чаплином, чьим творчеством Леня восхищался и чьи картины мы пересматривали много-много раз. В конце фильма «Огни большого города», где девушка дарит Чаплину цветок — так это были вы? — я плакала. Леня тоже.
культура: Вы были на одной волне.
Гребешкова: Да, да... В детстве, правда, я считала, что если уж выходить замуж — то только за скрипача. Очень мне нравились их пассажи (изображает скрипку. — «Культура»). А вышла за кинорежиссера. Так получилось. Хотя вообще поклонников было немало. И будущие режиссеры, и актеры. И даже летчик... Как тогда было принято, ухаживали очень трогательно. А Леня провожал, провожал, наконец не выдержал:
— Ну что мы все ходим, давай поженимся, что ли?
— Нет, Лень. Ты длинный, я маленькая, будем как Пат и Паташон.
— Понимаешь, большую женщину я не подниму. А маленькую буду на руках носить.
— Тогда согласна!
Ни разу не поднял (смеется). Потом уже я поняла, что это была шутка. И что жену он выбирал по росту. У Лени мама была маленькая, сухонькая. И такая хитрющая!.. Он ее то и дело вспоминал: «А вот мама...»
культура: Как Ваши родители приняли Гайдая?
Гребешкова: Мне было уже 23 года. В те времена считалось: «пересидела». Возвращаюсь однажды домой:
— Мам, я замуж выхожу.
— За кого?
— За Гайдая.
А мама всех ребят знала, они ж к нам ходили без конца — лапшу мамину есть.
— Да ты что?! Он же больной! Ты захочешь детей, а от осинки не родятся апельсинки...
Зато потом они так полюбили друг друга — Леня даже шутил: «И чего я на тебе женился? Надо было на Екатерине Ивановне!..»
И с папой подружился. Пал Саныч гордился нами. Мою карточку в кармане носил. Во дворе на лавочке показывал: «Это моя дочка! Не верите? Ну и не надо!» Я тогда уже у Пырьева снялась...
культура: Леонид Иович ведь тоже фронтовик...
Гребешкова: Да, но войну они с отцом не любили вспоминать. Хотя поначалу папа, налаживая контакт, рассказывал «смешное» — как при «проклятой» луне немцы разбомбили поезд, всех раскидало, и он воткнулся в сугроб вниз головой. Но Лене было не смешно. Он вернулся весь израненный, больной. За ним, как за ребенком, надо было ухаживать. А он многое мне не говорил, не хотел огорчать. Хотя минные осколки выходили из раненой ноги всю жизнь. Леня же всегда меня успокаивал: «Не волнуйся, умру на своих ногах». Ему нравилось, что я светлая, что смеюсь, радуюсь жизни... Он же дома был молчаливым, ироничным. Только кричал из кабинета: «Нинок! Нинок!»
культура: А как строился ваш быт?
Гребешкова: Дом был на мне. Но он это очень ценил. Например, Гайдай на съемках, а я тороплюсь ремонт сделать. Пока его нет. Приезжает: «Нинок! Это ты придумала? Как кра-си-во!» При этом с удовольствием готовил, помогал с покупкой продуктов.
культура: Вы с мужем из многодетных семей, а у вас только одна дочь...
Гребешкова: Я хотела работать и нормально жить. А Лене часто не хватало времени на воспитание даже единственной дочери. Помню, возвращается домой, а Оксана — вся в газетных обрезках.
— Нина! Нина! — кричит. — Ты посмотри, что у нее в комнате!
— А ты что, с ней не знаком? Ну, скажи, что так нельзя. А я разрешила. Это развивает моторику...
— Ах, это полезно? Ну, ладно, Оксаночка, режь, режь...
культура: Он был педант, чистюля?
Гребешкова: Терпеть не мог, когда в его кабинете что-то переставляли. Но куда было деваться? Убиралась-то все равно я.
культура: А машину почему сами ремонтировали?
Гребешкова: Леня не разбирался. Я потому и сопротивлялась покупке. Понимала — будет гнить под окном консервная банка. Нам сначала «Москвич» предлагали. Но мы как раз в жилищный кооператив вступили, и в квартире из мебели были только две раскладушки. Но позже все-таки купили автомобиль, водили по очереди. «Мосфильм» даже выделил Лене грузовик для занятий. Однажды приходит:
— Нинок, у нас деньги есть?
— Есть. А что?
— Я ворота на «Мосфильме» снес...
Потом, правда, водил блестяще. Но все равно ничего не понимал: что, где, куда... Я ему на кухне в форточку кричу: «Леня, отпусти ключ!» Весь двор в курсе — он не слышит. Приходит: «У тебя что-то с зажиганием». Спускаюсь, вставляю новый замок, объясняю: «Все элементарно: должна быть искра. Чпок — и отпускаешь». — «Понял...» И опять — тррррр... Раза три меняла зажигание. К счастью, Бог наградил меня колоссальным терпением. Я понимала: человек мне достался необыкновенный. И моя задача — помогать.
культура: Ну Вы хоть были счастливы?
Гребешкова: Конечно, это очевидно. Моим лозунгом была фраза, которую я услышала в Северной Корее, куда ездила с делегацией Госкино: чучхе и чхоллима! Это ж про меня — самостоятельность и независимость. Гайдай это принимал. Я все время работала. Была действительно независимой, самостоятельной. Что совершенно не мешало нам быть счастливой прочной семьей. Мы своими отношениями очень дорожили. Я в любое время могла купить себе все, что угодно. Помню, взяла отложенные на оплату кооператива 400 рублей и поехала в ювелирный. Купила кольцо, серьги. Потратила все! Возвращаюсь — смотрю: ну и зачем они мне?..
культура: Как зачем? На премьеру фильма. Часто ведь именно Ваши искрометные фразы украшали комедии Леонида Гайдая!
Гребешкова: Да, частенько (смеется). А я узнавала об этом, только когда картина выходила на экран. В последний год Леня жалел, что не сделал для меня ни одного фильма. Ну так, чтоб специально для меня. В основном ведь эпизоды были. Правда, все разные: я что-то сочиняла, придумывала своим героиням биографии. И счастлива, что ни одного фильма Лене не испортила.
культура: Сами-то по-прежнему снимаетесь?
Гребешкова: Вот сейчас сыграла у Коли Лебедева в «Экипаже». Так что жизнь и работа продолжаются.


