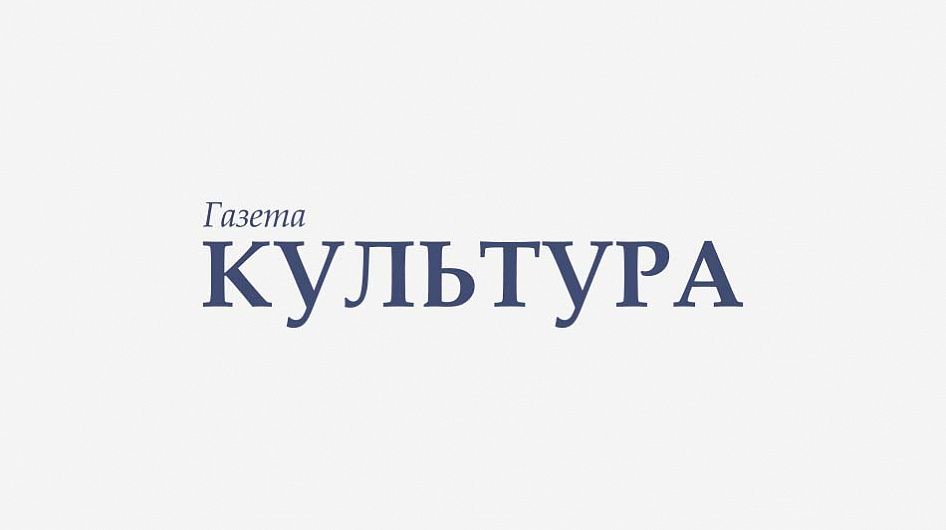
Семь стариков и один Мальчик
23 ноября народному артисту России Анатолию АДОСКИНУ исполняется 88 лет. Он до сих пор играет в спектаклях родного Театра имени Моссовета, пользуясь завидным уважением коллег. На днях вышла книга мемуаров Анатолия Михайловича «Ах, если бы вы знали, если бы слышали…», где автор воскрешает главные встречи своей жизни. «Культура» встретилась с актером в его старомосковской квартире на Каретном Ряду и узнала много интересного.
культура: Как родилась Ваша книжка?
Адоскин: Случайно. Меня перестали занимать в театре, надо было себя куда-нибудь деть, вот и засел за мемуары. Благо есть что вспомнить: я вышел на сцену более семидесяти лет назад, и долго-долго был самым молодым в театре, а сейчас, наоборот, самый старый. Я, конечно, экспонат для нынешнего времени, хотя неплохо себя в нем чувствую.
культура: Вы почти не пишете о себе и своих ролях…
Адоскин: Не уверен, что могу быть интересен читателям. Говорю без кокетства. Любопытен только как человек, который многое видел и многих знал.
культура: Почему связали жизнь со сценой?
Адоскин: Безумная любовь к театру проявилась рано. Мы жили в Козицком переулке, рядом стоял огромный дом, в окнах его до поздней ночи горел свет. Там обитали артисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Через школьного товарища я попал в тот двор и меня, чужака, приняли. Новые товарищи показали мне театрального капельдинера, который пускал на спектакли, а я в благодарность приносил ему ломтики черного хлеба, которые украдкой отрезал дома. Естественно, я решил стать оперным певцом, до сих пор назубок знаю многие партии.
Но шла война, было не до пения. Я работал на военном заводе — собирал мины и считался лучшим в цехе. Отец, вернувшись с фронта, отвел меня в техникум автотранспорта. Я не ходил на занятия, через год выгнали. Почему не ходил? Потому что отдавал все силы театральной студии, понимал, певцу надо владеть драматическим искусством. Маме сказать об отчислении не решался, поскольку потерял рабочую карточку. Получить ее вновь можно было при поступлении в Студию при Вахтанговском театре. Но экзамены уже закончились. Тогда я узнал домашний адрес руководителя курса Бориса Захавы и нагрянул к нему домой.
культура: Как же решились?
Адоскин: До сих пор удивляюсь. Рассказываю, а кажется, что про другого человека. Я вообще был максималистом, несуразно смелым, отчаянным — полная противоположность тому, что представляю собой сейчас. Пришел к Захаве утром, постучал, он вышел ко мне в халате, и я выпалил: «Хочу к Вам в студию. Знаю, что поздно, но я очень талантливый, возьмите меня». Видимо, от изумления он решил меня прослушать и зачислил на курс. Проучился всего три дня, добыл карточку и ушел. Я-то хотел попасть к Завадскому, ждал его возвращения из эвакуации.
культура: Почему? Видели его спектакли?
Адоскин: Театра Завадского я, конечно, не знал. Но руководитель нашей студии Константин Воинов преподавал в Студии Театра имени Моссовета и о Завадском много рассказывал. Воинов и подготовил меня к экзамену, дал мне дивного «Дядю Степу» Михалкова. Я читал по мизансценам, обыгрывая пантомимой каждую строчку.
культура: В Студии при Театре имени Моссовета Вашим закадычным другом стал Анатолий Эфрос?
Адоскин: С Толей подружился еще у Воинова, где наше сообщество смахивало на секту — все молодые энтузиасты, одержимые театром. Мы, ученики, отбирали новых желающих, а их были толпы. В затемненной комнате приемная комиссия, в ней и мы, студийцы, сидели полукругом, руководитель — на возвышении, над ним — яркая лампа, направленная на абитуриента, как в КГБ. Помню, словно вчера было: вошел абитуриент в синем свитере, с кепочкой в руке, представился: «Эфрос. Анатолий. Работаю на авиационном заводе. Токарь четвертого разряда». И я важно спросил: «Что будете читать?» Он начал гоголевскую «Тройку»: «И какой же русский не любит быстрой езды?» Звенящим голосом, нараспев — под Яхонтова, которого Толя обожал. Такой была наша первая встреча. Вместе учились, играли в Театре Моссовета в массовке, иногда нам доверяли эпизоды, но главное — мы с Толей в спектаклях Завадского «шумели».
культура: Шум за сценой?
Адоскин: Скорее, над сценой. Сидели на колосниках, вокруг — колотушки, плошки, громадное корыто с горохом — им изображался шум прибоя. То было настоящее искусство. Внизу шел «Отелло», а мы с Толей наверху насылали на сцену бурю, чувствуя себя громовержцами. Он раскачивал массивный лист железа, а я на огромном барабане вторил раскатами грома.
Завадский, как и Станиславский, ценил звуковой образ спектакля, считал, что он важен для атмосферы. В «Чайке» около озера стоял фанерный куст, за ним на корточках сидели мы с Толей и во время объяснения Тригорина с Ниной мигали лампочкой и фырчали как встревоженные птицы. Мне иногда кажется, что с этого фырканья Толя поднялся и взлетел. Режиссерский талант Эфроса разглядел именно Завадский.
культура: Спустя годы ради работы с Эфросом Вы решились оставить родной театр?
Адоскин: Прослужив в Театре Моссовета, в поисках новых ролей перешел к Олегу Ефремову в «Современник». Когда же Эфрос возглавил Театр имени Ленинского Комсомола, направился к нему. Толя сразу совершил ошибку — сделал меня своим помощником, мы не скрывали нашей дружбы. Сейчас-то я понимаю, что нельзя быть с руководителем на «ты». Работали азартно. Я пригласил в театр Валентина Гафта, Евгения Стеблова, почти уговорил Светлану Немоляеву и Александра Лазарева перейти к нам. К сожалению, золотой период продлился недолго, Эфроса отстранили от руководства и назначили очередным режиссером в Театр на Малой Бронной. С собой разрешили взять только несколько человек. Я не мог представить, что не войду в их число. Мы были настолько близки, я знал все его тайны, участвовал во всех делах. Толя собрал нас у себя на квартире и назвал тех, кого забирает с собой. Своей фамилии я не услышал, и у меня потекли слезы — такой удар. Было очень тяжело. Знаю, что ему тоже. Рад, что никогда не предъявлял ему никаких претензий. Мы долго не встречались, я даже на спектакли его не ходил, не мог себя заставить.
культура: Как же наладили отношения?
Адоскин: Через несколько лет студийцы Завадского собрались на день выпуска, пели наш гимн «28 веселых и лучистых, задорных оптимистов…» Теперь я один остался и петь больше не с кем… Вот тогда Толя пришел и сел рядом, хлопнул меня по плечу, и мы обнялись — так вновь соединились и уже не расставались до самого последнего дня его жизни. Он умер сразу после дня рождения своей жены, Наташи Крымовой. Мы засиделись у них допоздна, а утром узнали… За несколько дней до этого в Театре на Таганке, где работал Толя, на худсовете против него вновь звучали грубые и несправедливые слова.
культура: Почему Вы не остались в Ленкоме и решили вернуться в Театр Моссовета?
Адоскин: Моя история — история блудного сына. Пришел, когда погорел везде. Нигде не мог прижиться, хотя получил бесценное богатство, работая у Ефремова и Эфроса.
культура: Вы дружили с Фаиной Георгиевной Раневской. Можете ли ее с кем-нибудь сравнить?
Адоскин: Ни на кого не похожа. Гордое одиночество. Великое одиночество. Знаете, чем она занималась, когда не репетировала и не играла? Отвечала на письма незнакомых людей. Целый день. И все время записывала свои мысли на чем попало — в основном на рецептах, потому что болела сильно, и рецепты лежали везде.
Я гулял с ее собакой — Мальчиком. Фаина Георгиевна следила за нами с балкона, вооружившись театральным биноклем, и ее бас перекрывал целый двор: «Толечка, подождите, он еще не сделал. Потерпите минуточку!». Два раза в месяц я ходил на почту и отправлял переводы в Ленинград, в Дом ветеранов сцены. Фаина Георгиевна получала тогда четыре тысячи рублей. Одна тысяча шла на домработницу — помощницы часто менялись и все время ее обворовывали. На вторую тысячу покупались подарки врачам. Третья — отправлялась ветеранам. На жизнь оставалась четверть, средств всегда не хватало. Мы — все, кто были ей близки, пытались ее урезонить, просили оставлять деньги себе. Но девиз Фаины Георгиевны: что отдал, то твое. Она называла себя выродком Льва Николаевича, имея в виду силу сочувствия, которую ощущала в себе.
Она, конечно, человек XVIII века, не девятнадцатого и уж точно не двадцатого. Она где-то рядом с Дашковой, Меншиковым, Екатериной Второй, Потемкиным… Мы мечтали устроить праздник в честь ее 80-летия, но уговорить не смогли. «Я расскажу, что это будет. Сидит старуха в кресле, и все поют гимн ее подагре. Ей дарят 150 дерматиновых папок, она вызывает грузовое такси, чтобы их увезти, приезжает домой и на нервной почве дает дуба».
культура: О Раневской ходит много забавных историй…
Адоскин: … Тогда как она настоящая трагическая актриса и человек с драматической судьбой. Мощнейшая натура. Ее ощущение жизни передают глаза, полные великой библейской скорби. Какой грандиозный поступок: девочкой сбежать из дома, из самой богатой семьи Таганрога. Я видел, как она плакала перед «Возвращением блудного сына» Рембрандта. Семья эмигрировала после революции, и Фаина Георгиевна потеряла с ней связь. Десятилетия спустя узнала, что родные живут в маленьком городке в Румынии, и поехала туда. Они, оказалось, следили за ее судьбой, знали, что она знаменита, но боялись сообщать о себе, чтобы не навредить, и не сомневались, она — богачка. А у нее ничего не было. К тому же Завадский в тот самый момент, когда она поехала в Румынию, выгнал ее из театра…
культура: Из-за чего?
Адоскин: Знаменитая ссора. Характер-то у Фаины Георгиевны был неудержимый. Стала негодовать, что Юрий Александрович не ходит на репетиции и передоверил их стажеру. Наконец, Завадский появился и начал давать советы. Слово за слово, крикнул ей: «Вон из театра!», на что тут же получил: «Вон из искусства!». Так и разошлись. Встретились на приеме в румынском посольстве. Завадский подошел к ней, вырвал из ее рук ридикюль и положил туда весь свой гонорар за постановку «Вишневого сада» в Бухаресте (понимал, что семья ждет от нее помощи) и потребовал немедленного возвращения в театр. Фаина Георгиевна согласилась.
Она обожала делать подарки, уйти от нее с пустыми руками было невозможно. У меня хранится чемодан, где полно мелочей от Фаины Георгиевны. Видите скульптурку? (Анатолий Михайлович показывает небольшую, а-ля античную женскую фигуру. — «Культура».) Это был наш условный знак в ее квартире на Котельнической. Раневская говорила: «Толечка, если она смотрит на вас из окна, значит, я дома, а если повернулась жопой, значит — меня нет». Ценный подарок — подлинный рельеф с надгробия Бориса Пастернака. Первый авторский вариант скульптора Сарры Лебедевой. Он висел над ее кроватью и невольно притягивал внимание. Однажды Фаина Георгиевна перехватила мой взгляд и сказала: «Берите!» Отказаться было немыслимо.
культура: На телевидении и радио Вы выступали с авторскими программами, посвященными русским поэтам и писателям. Среди героев — Кюхельбекер и Иван Пущин, Александр Одоевский и Дельвиг, Жуковский и Баратынский…
Адоскин: Счастье, что оказался нужен для создания учебных программ. Ведь я не историк, не литературовед. Более того, мне помогла моя недостаточная образованность. Когда нет груза знаний, то докапываешься до глубин истории. Права Ахматова: «Не верьте воспоминаниям». Мы же все получили из вторых рук, в наследство от прошлого и не утруждали себя проверкой. Я стал архивной крысой, добирался до истины. Выяснялось, что многое из написанного — неправда. Денис Давыдов — совершенно другой человек. Не весельчак и не рубаха-парень, как сочинил про себя. На самом деле он не пил, принимал гомеопатические порошки, женщин боялся, как огня, особенно своей жены, был незаурядным историком, которого почитал Вальтер Скотт. А Жуковский! Когда я учился, его даже не упоминали в школьной программе, он считался царедворцем. На самом-то деле, Василий Андреевич — защитник Пушкина и всех достойных людей Отечества. А какой же Дельвиг ленивец? Трудяга, издатель первой «Литературной газеты», смельчак, бросивший в лицо Бенкендорфу фразу о бесстыдстве его управления.
Это увлечение сделало меня независимым от театра.
культура: Неужели так плохо в театре было?
Адоскин: К своим ролям всегда оставался несколько равнодушен. Случались счастливые моменты в театре и в кино. Популярность я получил по двум фильмам: «Девчата» и «Семь стариков и одна девушка», хотя у меня есть и более серьезные работы. В архивах же мне досталась полная независимость и свобода.
культура: Не стремление ли к свободе породило Ваши знаменитые капустники?
Адоскин: Капустники мы затевали с Александром Ширвиндтом и доставляли Михаилу Ивановичу Жарову — тогда общественному директору Дома актера — уйму неприятностей. Мы ему читали, а потом на сцене отходили от прочитанного, и фантазия нас несла…
культура: Как возник один из самых известных Ваших номеров — «Сурок» на музыку Бетховена?
Адоскин: «Сурка» представили в Доме актера в новогоднюю ночь. Тогда наши артисты ездили за границу с «искусствоведами в штатском» — животрепещущая тема. Саша Ширвиндт объявлял победителя международного конкурса в Париже. Поначалу дрожащим от волнения тенором я должен был петь: «По разным странам я бродил, и мой стукач со мною». Потом подумали, что негоже рафинированному гастролеру произносить грубое слово «стукач». Тогда вместе с певцом выходил уверенный «искусствовед», садился за столик и на слово «стукач» отбивал дважды костяшками пальцев по столу. Получалось так: «В Париже часто выступал: / Рукоплескали стоя. / Культуру нашу представлял / И мой («тук-тук») со мною». Смех стоял оглушительный, особенно когда в объятиях героя вместо пленительной француженки оказывался «тук-тук». Несколько лет назад нас попросили вспомнить старый репертуар, и на «Сурка» молодежь не отреагировала. Время ушло.
культура: Как рождались капустники?
Адоскин: Чаще всего из пародии на что-то известное. Сейчас Наталия Журавлева хочет подготовить в доме Рихтера вечер в честь 115-летия со дня рождения отца. Я вспомнил, как мы поздравляли Дмитрия Николаевича — журавлиной кантатой в исполнении трех старых пернатых: Ростислава Плятта, Бориса Иванова и меня. Собрал все известные «птичьи» фамилии: музыку якобы написал Птичкин на мотивы Соловьева-Седого в обработке Евгения Крылатова. Стихи — Гусева, Орлова, Уткина, Курочкина в переложении Птушко. Хормейстеры — Клавдий Птица и Штраус-отец. Художественный консультант Анатолий Соловьяненко. Текст Лебедева-Кумача. Каждая часть имела название. «Лучше Журавлев в небе, чем Сорокин на эстраде». «Лучше Журавлев в небе, чем Грач в филармонии». «Лучше Коршунов в Малом, чем Жюрайтис в Большом»… Смеялись зрители до слез, а сам юбиляр по-детски хлопал в ладоши. Придумывать — удовольствие, и я заметил, что когда говоришь что-нибудь смешное, то получается не расплывчатый правильный образ, а конкретный человек.
культура: Как Вы сдружились с Дмитрием Журавлевым? Вы же люди разных поколений…
Адоскин: Надо вспомнить самое начало. Моя творческая закалка — цветаевская семья, Елизавета Яковлевна Эфрон, сестра Сергея Эфрона, мужа Марины Цветаевой. Ученица Вахтангова, потом работала с Завадским и преподавала нам художественное слово. Жила в жуткой коммуналке в Мерзляковском переулке, в соседних комнатах — сумасшедшая, знаменитая доносчица, известный мастер спорта, футболист, бывший замначальника лагеря на Соловках — чистая булгаковщина. Елизавета Яковлевна часто болела, и мы занимались у нее дома. Там я и встретился с Дмитрием Журавлевым, он ее просто боготворил. Лучшие программы созданы им вместе с Елизаветой Яковлевной. Она часто говорила: «Толя, мы сейчас работаем над «Пиковой дамой», сядь на сундучке и послушай». Сейчас даже не верится, что не только он мне делал замечания, но и я ему, самому Журавлеву. Вообще-то, свойство большого художника — отсутствие возрастного ценза. Мог ли я знать, что в сундучке, на котором мы сидели, хранился цветаевский архив? Когда Цветаева с Эфроном поженились, то центром семьи стала Елизавета Яковлевна.
культура: Она рассказывала о брате, о Цветаевой?
Адоскин: Имя Цветаевой тогда не было известно. Но я понимал, что есть какая-то тайна. Замечал, что знаменитые ученики приносят ей не цветы, а консервы, крупы, горох, сухари. А раз в месяц ее подруга Зинаида Митрофановна, дочь священника, потерявшая все из-за своего происхождения, ехала в Мытищи, чтобы отправить посылки в тюрьмы родным Эфрон–Цветаевых — ни брата, ни Марины Ивановны, ни их сына Мура уже не было в живых.
Елизавета Яковлевна прививала нам любовь к русскому слову. Она дружила с Юрием Тыняновым и делала с нами его «Пушкина». Раздала всем студентам по фрагменту. Мне достался эпизод, когда старый арап приезжает навестить семью Пушкина и видит глаза поэта-юнца. А я до сих пор вижу глаза своего педагога, о которых написал Волошин: «Полет ее собачьих глаз / Огромных, грустных и прекрасных…»
Да, встречи со многими титанами подарила жизнь, и каждый меня куда-нибудь завлекал. Вот в книге мне и захотелось их вспомнить.


