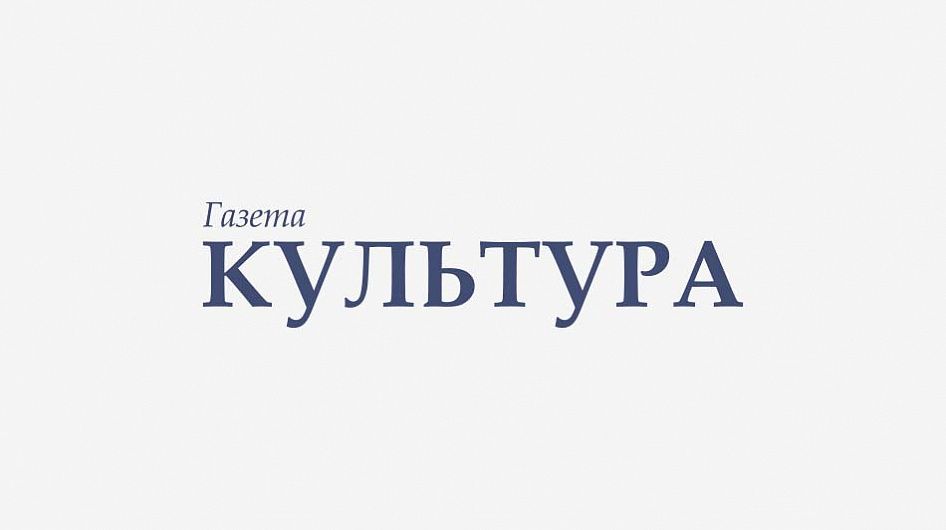
Композитор Алексей Рыбников: «Мы живем в эпоху, когда процесс разрушения охватывает все области человеческой жизни»
В «Градском холле» 17, 18, 24 декабря зрители смогут увидеть оперу-драму Алексея Рыбникова Le Prince André по роману Льва Толстого «Война и мир». Знаменитый композитор рассказал «Культуре» о том, как работал над спектаклем, и о том, что теория Большого взрыва противоречит закону сохранения энергии.
— Я была в октябре на спектакле Le Prince André вместе с шестнадцатилетним сыном. Он остался в восторге от постановки. Рассчитывали ли вы на молодую аудиторию?— Конечно, мне хотелось сделать увлекательную историю именно для молодых людей. Удивительно, но, оказывается, сюжет «Войны и мира» многие сейчас не знают. Например, Le Prince André очень понравилась американскому продюсеру, речь зашла о постановке в США, и выяснилось, что в Америке никто не знает, о чем роман. Так что у меня есть миссия — пропагандировать произведения Льва Николаевича Толстого. Для меня это очень приятно и лестно.
— «Война и мир» — патриотическое произведение?
— Толстой, безусловно, писал патриотическую книгу. Когда к тебе в дом вламываются грабители, хотят его разрушить, убить твоих близких людей, то ты поневоле становишься патриотом.
— Думали ли вы, когда писали оперу, что тема войны будет актуальна?
— Нет. Но вся мировая история — это история войн. Государства и племена либо захватывали новые территории, либо сопротивлялись врагам. Стремление к войне, к сожалению, заложено в человеческой природе. Мне повезло. Я родился в 1945 году и всю жизнь, в общем, прожил без войны. Были локальные военные конфликты, но угрозы глобальной войны не было. Мы все говорили: «Хорошо, что есть атомная бомба, потому что она спасает нас». Наличие ядерного оружия обеспечило СССР, а потом и России много десятилетий мирной жизни. Но очевидно, что настал тот момент, когда снова в истории человечества война и снова на поле боя надо решать какие-то вопросы.
— В 2011 году вы написали оперу «Война и мир». Le Prince André как-то с ней связана?
— Это то же самое произведение. Десять лет назад возник трехактный вариант, я бы сказал, эскиз. Спектакль должен был быть безумно дорогим: я представлял себе только огромную сцену, масштабные декорации, грандиозную постановку. Поэтому мы не смогли ни средств тогда найти, ни театральную площадку. У нас же не опера в прямом смысле, а опера-драма. Меня в высоких кабинетах спрашивали: «Где вы будете это делать? В Большом театре? В Театре Станиславского?» А там уже существует изумительная опера Прокофьева «Война и мир», написанная специально для классического вокала. А у нас — с микрофонами поют, и вокал, выработанный в нашей мастерской (Творческая мастерская Алексея Рыбникова. — «Культура»), — смесь и классического, и рок-вокала, и актерского пения. Где ставить — непонятно.
Все тянулось до 2020 года. Тогда пришла мысль, что надо уложиться в два акта, а не в три, и делать все очень сжато, в гораздо более современной драматургической форме. Тогда мы придумали и решение с черным экраном на сцене, на котором появляются проекции. В 2020 году Александр Калягин пустил нас в свой театр «Et Cetera». Мы смогли сыграть два спектакля. И вот теперь мы показываем Le Prince André на сцене «Градского холла», в котором после трагического ухода из жизни Александра Градского я стал художественным руководителем.
— Сцена концертного зала подошла?
— Нет, площадка эта оказалась неприменимой для спектаклей, ведь «Градский холл» — это бывший кинотеатр. Сцена была очень маленькой, летом мы ее переоборудовали. В итоге она стала театральной. Сам же зал оказался именно таким, каким я его представлял в мечтах. Черный зал. Когда я в первый раз пришел сюда, то я увидел свой модуль, который создавал в середине 90-х. Очень много дали черные стены. В то же время в зале много света. Это дает полное включение зрителей в то, что происходит на сцене. Все видно, как под микроскопом. Если это хорошо, то идет эмоциональное воздействие сильнее, чем в обычном театре, но зато видны все недостатки, все огрехи. Поэтому мы добиваемся от актеров предельно точной игры.
— К какому жанру относится Le Prince André?
— Это синтетический жанр, который мы назвали опера-драма. У нас есть классический вокал, и рок-вокал, и вокал драматических актеров. В то же время мы противопоставляем себя классической опере, мюзиклу, рок-опере. В мастерской мы выработали свою манеру пения — предельно естественную. Для для меня это очень важно в вокале. Микрофоны позволяют доносить всю палитру актерского звучания. Классическая же опера основана на бельканто, певцы доносят звук до слушателей с помощью естественных резонаторов.
— Какие коллективы принимали участие в этом спектакле?
— Сама постановка — Творческой мастерской Алексея Рыбникова. Но спектакль, который сейчас появился, — результат усилий трех организаций: Творческой мастерской Алексея Рыбникова, Творческого объединения «Градский холл», где я тоже художественный руководитель, и «Нового балета».
— Не хотите Le Prince André как-то зафиксировать?
— Да, в театре есть проблема, что спектакли исчезают. Мы этот спектакль уже сняли для служебных целей. Было непросто. Ведь обычная съемка тут не подходит: не передает эмоциональное ощущение от театральной постановки. Взяли группу очень молодых, талантливых ребят, которые стали снимать спектакль как фильм: выставляли по-киношному свет: на крупные планы один, на средние другой, с разных камер записывали, затем монтировали, озвучивали. В результате получилось полноценное произведение, которое можно смотреть и на киноэкране, и на экране телевизора.
— Что вы сейчас еще готовите в «Градском холле»?
— Я снял в 2018 году музыкальный фильм «Литургия оглашенных» по своей опере и хочу на этой площадке показать его. Но это не будет просто показ киноленты. Фильм будут сопровождать живые хоры, оркестр, участники.
— Новый жанр изобретаете?
— Вы знаете, не я изобретаю, просто чувствую жизнь и чувствую, что что-то надо сделать такое, чтобы современному зрителю было интересно. Выходить за рамки всех жанров мне кажется интересным. XXI век — это век смешения всего. Красок очень много появилось у композиторов, поэтому разделять по жанрам мне, например, совсем не хочется. Единственное, что у меня есть такая тайная мечта — все-таки написать оперу для классического вокала, для классического оперного театра. Мне это интересно. Но классическая опера предполагает красоту голоса, а не просто наличие слуха и репертуара у певца. Когда исполнитель по-настоящему одарен, вот тогда классическая опера — совершенно фантастическое искусство. От настоящих оперных певцов, которых я слышал в Венской опере, в лучших операх мира, невозможно оторваться. Но таких исполнителей мало.
— В одном из интервью вы говорили, что постараетесь избежать в Le Prince André как нафталинности, так и авангарда. Почему?
— Это очень просто объясняется. Авангарду в современном понимании больше 100 лет. Сейчас авангард означает отсутствие мелодии, отсутствие гармонии, отсутствие формы. Это почему-то считается новаторством, хотя это просто разрушение музыки как таковой и возникновение другого оперирования музыкальными звуками, которые у людей с музыкой не соотносятся.
— Но, может быть, это и есть новые формы? Ведь такие авторы говорят, что создают новое, разрушая старое.
— Вы правильно сказали — «разрушать» и «создавать». Но эти процессы абсолютно несовместимые. Нельзя разрушать что-то, чтобы создать. Возьмем мы сейчас и всю мебель здесь верх ногами перевернем…
— Это перформанс!
— Это любование разрушением. Понимаете, это гораздо более глубокий вопрос, потому что это уже вхождение громадной эпохи разрушения во все области человеческой жизни. Пока это были шуточки: искусство, туда-сюда. Но вмешались уже в семью, папы и мамы нет. Получилась антисемья, антиискусство и антимузыка.
— Вы считаете происходящее с музыкой, искусством, семьей глобальным процессом?
— Да. Речь идет о разрушении устоев. Говорят: «А вот это что-то новое». В общем, да. Дом стоял, потом его разрушили. Это что-то новое. Это путь, по которому сейчас идет во многом театральное искусство… Берут классику и разрушают ее. Этого я тоже насмотрелся, например, в итальянском театре «Ла Фениче», когда поставили оперу «Ромео и Джульетта». Я ушел после первого акта, потому что там было все разрушено, все испоганено. Надругались над классикой. Что касается создания своего — то таких произведений значительно меньше, а то и вообще нет. Я считаю, что режиссеры таким образом самоутверждаются. Смотри, какой я великий, взял и Шекспира, видите, перелопатил, «Кармен» поставил в общественном туалете…
— Как отличить прочтение режиссера от такого деструктивного подхода?
— Почему-то взглядов режиссера в XIX веке не существовало. Еще раньше возник театр Шекспира, а вот взглядов режиссеров на его прочтение вы не найдете. Были авторы пьес, были актеры, режиссер же просто доносил замысел драматурга. Если же постановщик хочет сказать свое слово, то пусть пишет свою пьесу, пусть пишет ее совместно с драматургом. Мы знаем много примеров, когда режиссеры в кино, например, так делали. Писали вместе со сценаристом. А если у нас в кино снимали экранизацию классического произведения, то относились к нему очень бережно. Я имею в виду конец ХХ века. Почему-то в театре это считается за милое дело — взять произведение и его исковеркать.
— Вы сказали, что в конце XX века бережно экранизировали классику. Вы имеете в виду советское время?
— Да.
— После распада СССР материально мы стали жить лучше, а культурно — деградировали, в том числе деградировал кинематограф. Почему, как вы думаете?
— Дело в том, что советская система поддержки искусства была очень эффективна. Был очень высокий ценз того, что поддерживает государство. А оно поддерживало талантливых людей — талантливых режиссеров, актеров. Цензорами в хорошем смысле выступали литературные редакторы или редакторы фильмов. Были худсоветы, где тоже непростые люди собирались, и иногда то или иное произведение зажимали. Зажимать-то зажимали, а посмотрите, какое кино-то было: ленты Тарковского, комедии прекрасные. В 90-х годах эта система была разрушена. Пришли продюсеры, которые только хотели зарабатывать деньги и часто — отмывать их. Уже не до таланта было, талантливые люди как раз за бортом оказались. При советской власти не было такого критерия, как кассовый успех. Были успешные в финансовом отношении фильмы, а были — некассовые, но которые очень высоко ценились, считались философскими. Была критика настоящая, которая могла, если отвлечься от идеологии, по художественным качествам достаточно точно оценить, как сейчас говорят, контент. Дикий рынок оказался губительным для искусства. При советской власти было еще понятие воспитания зрителя. Вот зритель немножко ниже, а ты своим искусством должен его поднимать. А сейчас наоборот — гонка за зрителем. Он ниже опустился, бежим за ним, ниже, ниже, ниже… И еле успеваем за ним бежать, потому что уровень все понижается.
— Сейчас идет дискуссия, чтобы из школьной программы убрать русскую классическую литературу, потому что слова там незнакомые детям, ребенку трудно…
— Ну вот уровень культурный и падает из-за этого. Ты перестаешь понимать. А что ему понятно, современному школьнику? Что ему интересно? Когда поймут, что ему интересно, тут-то просто в ужас приходят. Что это за образование, когда «Войну и мир» не читают? А музыку слушают только определенную — популярную.
— Может, считают, что в глобальном мире русская культура и не нужна? Многие родители хотели бы, чтобы их дети уехали из России.
— Вот это ужасно! Знаете, ребятам хочу сказать: там тоже народ живет, оказывается. И тоже есть молодежь, которая хочет, чтобы их будущее состоялось в Западной Европе или в Америке. Есть там и талантливые люди, и они не пустят никого, потому что эти ребята — у себя дома. Вы говорите о психологии, сформированной в годы советской власти. Тогда люди чувствовали себя отрезанными. Но сейчас-то зачем туда уезжать и там жить? Ты можешь набраться опыта, но строить свое будущее у себя дома. Я очень хорошо знаю, как протекала жизнь людей, эмигрировавших в Великобританию, в США. Повезло единицам. Нужно работать для того, чтобы здесь было лучше. Страна-то у нас большая, богатая. Сейчас мы в этом убеждаемся. Как бы к нам не побежали со временем.
— Если вернуться к развалу Советского Союза, — тогда ожидали, что в России случится религиозное возрождение. Почему этого не произошло?
— Как вам сказать. Пока это было запретно, религия притягивала. А потом выяснилось, что вера предполагает очень высокие требования к человеку. Это не игрушки, это не модная штучка, пошел куда-то в храм, перекрестился раз в час. Оказывается, надо еще и жить определенным образом, поступать определенным образом. А как это совместить с современной жизнью, с 90-ми годами, когда каждый шаг был нарушением всех заповедей. Хотя бандиты очень церковь поддерживали и спонсировали, давали деньги на это. Мне кажется, они чувствовали, что надо душу спасать. Но я должен сказать, что у меня есть дом за Переславлем-Залесским, в лесах. Там множество церквей разбросано по деревням. Очень многие восстановлены буквально из руин. Но в Евангелии сказано, что верующие люди — соль земли. Если бы все люди были верующими, то и конца света бы не пришлось ждать, а наша жизнь выглядела бы совсем по-другому.
— Я была на вашей пресс-конференции, вы говорили, что в отечественном радиоэфире не хватает канала духовной музыки.
— Это действительно так. В России нет таких каналов, а в Европе, в США — есть. Вообще Америка — религиозная страна. Православных верующих, может, небольшое количество, но протестантов — очень много. И в эфире просто огромный выбор религиозных радиостанций. Вот на каждую деноминацию. Зачастую там просто передается музыка, с проповедью никто не выступает. Мне кажется, что в России нужен такой канал. Есть радиостанция «Вера», там очень много бесед, рассказов. Но иногда хочется просто, чтобы звучала духовная музыка. Ведь про веру можно по-разному рассказывать, можно и оттолкнуть человека. Это очень тонкий вопрос. А хорошая музыка и пение монашеских хоров — это прямое воздействие на душу без слов.
— То есть лучшая проповедь — музыка?
— Конечно. Представьте, стоишь в пробке, включил радио, а там тоже долбят популярной музыкой, переключаешь на канал духовной музыки — и отдыхаешь душой.
— А ваша книга «Олень повернул голову» поможет отдохнуть душой? О чем она?
— Надеюсь, что поможет. Книга о мироустройстве, причем не с научной точки зрения. Ученые изучают уже созданный мир. А вот как мир возник, почему он оказался именно таким, откуда все взялось? Есть же закон сохранения материи, энергии. Еще Ломоносов говорил: «Все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, что ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится». Ниоткуда ничего не берется. Если что-то где-то появилось, значит, где-то оно исчезло. И тут говорят: у нас был Большой взрыв, и возникла Вселенная. Где все существовало до этого? Значит, где-то отнялось, чтобы возникла наша Вселенная. Откуда это отнялось?
— Мне кажется, что теория Большого взрыва — гипотеза, которую ничем проверить нельзя.
— Конечно. Все предположения о происхождении Вселенной, жизни — это только гипотезы и гипотезы, которые ни на чем не основаны. Единственное, что важно понимать, — человеку, человечеству нужно опираться на собственный опыт. И весь опыт человечества говорит о том, что из мертвого никогда не возникало живое. Ну не видели никто и никогда, чтобы из камня родилось живое существо. А вот когда живое творит что-то или превращается в мертвое, мы видим постоянно. Мы живем в мире артефактов, которые раньше были живыми. Мы можем сделать вывод, что главное свойство живого — это способность творить. А у мертвого есть только одна способность — видоизменяться. Если мы принимаем это как закон, что живое творит, а мертвое только видоизменяется, давайте экстраполируем это умозаключение на происхождение Вселенной. Тогда следует признать, что только живое, живое существо, живая личность могла сотворить Вселенную.
— Ну да, логично. Мертвая не могла.
— Только живое может творить. Соответственно, весь мир, который мы видим, тоже сотворен волей живой, живой личностью. Мы почему-то считаем, что личности наши — какая-то непонятная надстройка. Личность же — это главное, что есть в этом мире. Самое высокое достижение всего на свете, всех вселенных — это человеческая личность. И мир делится на личностный и безличностный.
Фото: Дмитрий Коробейников/ТАСС и Антон Кардашов/АГН «Москва»


