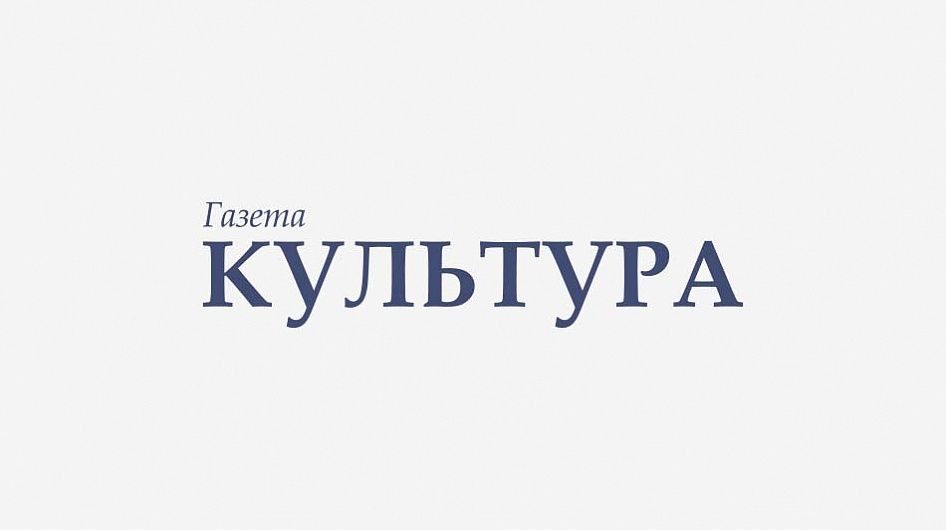
Дирижер Валерий Полянский: «Сцена и репетиционный зал — святые места»
В декабре 2021 года двойной юбилей отметил знаменитый коллектив страны: 50 лет Хору Валерия Полянского и 30 лет Государственной академической симфонической капелле России. Их основатель и бессменный руководитель — народный артист России, лауреат Государственных премий РФ Валерий Полянский ответил на вопросы «Культуры».
Оба коллектива зрители давно уже воспринимают как единое целое и называют Госкапеллой Полянского. Ее репертуар: от старинной духовной музыки до новаторских сочинений современных композиторов. Коллектив открывает музыку незаслуженно забытых композиторов, среди них неизвестные ранее произведения Гречанинова, Бортнянского, Танеева. Художественный руководитель и главный дирижер Валерий Полянский — профессионал, харизматик, умеющий включить энергию музыкантов, на которую откликаются сердца слушателей.
— В юбилейный год у вас особое волнение?
— Трудно поверить, что хору уже полвека — как-то быстро годы проскочили. К юбилеям отношусь спокойно, в круглых датах чувствуется какой-то итог. Из тех, кто начинал в 1971-м, в коллективе остались два человека — они занимаются хормейстерской работой. Полвека — это срок.
— Когда Госкапелла России в полном составе выходит на сцену, то у зрителей захватывает дух. Сколько музыкантов в штате?
— Хор — шестьдесят человек, оркестр сто двадцать, квартет солистов и приглашенные исполнители, с которыми я с удовольствием работаю.
— С чего начиналась история хора?
— В Консерватории собрали небольшую команду студентов — в основном дирижеры-хоровики, были теоретики и даже воспитанники музыкальных училищ. Некоторые сегодняшние профессора пели у меня в хоре, будучи студентами. Наш профессор Владимир Васильевич Протопопов занимался тогда расшифровкой старых нотных рукописей, которые нужно было озвучить. Он обратился к руководителю учебного хора, но получил отказ — много своей работы. Зато получил и совет: «Есть шарага, ребята собираются, поют, может, они согласятся?». Шарагой назвали нас.
Дебютный концерт состоялся 1 декабря 1971 года в Малом зале Консерватории, мы пели Чайковского и Моцарта для хора и оркестра. После концерта Давид Федорович Ойстрах сказал: «У этих ребят большое будущее». Эти слова нас поддержали. Вскоре мы поехали в Прибалтику, которая тогда считалась вершиной хорового пения, и встретили теплый прием. Потом мы почти каждый год выезжали в прибалтийские республики.
В своем коллективе создали модель коммуны. Денег у нас не было, и мы решили, что каждый, приходя на репетицию, должен заплатить десять копеек, взнос опоздавших увеличивался вдвое. На эти деньги переписывали и печатали ноты. Сначала занимались два раза в неделю по утрам. Когда репертуар расширился, добавили большую репетицию в воскресенье. Спустя какое-то время нам сделали ставки по пять рублей. Их мы тоже складывали в общий котел. Благодаря накоплениям и при поддержке Консерватории ездили летом в Светлогорск Калининградской области, там мы занимались и, например, готовились к конкурсу «Гвидо д’Ареццо» в Италии, где в 1975 году стали лауреатами. Работали на голом энтузиазме — сейчас, наверное, такое невозможно.
— Когда стали профессиональным хором?
— В 1980 году нас включили в культурную программу Олимпийских игр в Москве. Мы дали шестнадцать концертов, пели в основном для интуристов — в церквях Зарядья и в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Нас уже знали — помимо тех, кто не понимал, чем мы занимаемся, были и те, кто к нам очень хорошо относился. Они и посоветовали написать письмо на тарификацию. Прошло время — ни ответа, ни привета. Потом меня вызвал заместитель министра культуры СССР Василий Кухарский и попенял на то, что я жалуюсь: «Что тебе надо?». Я объяснил, что у нас все хорошо, но мы уже выросли из любительского состава. Ребята взрослели, оканчивали Консерваторию, заводили семьи — их надо кормить, работать, а хор занимал много времени. Необходимо было переходить на другое положение или распускать сложившийся коллектив. Василий Феодосьевич повел меня по министерским отделам. В одном сидела симпатичная дама, оказавшаяся нашей поклонницей. Она ускорила процесс регистрации, назвали нас Государственным камерным хором СССР, но брать нас никто не желал — хотели отослать в Тульскую или Рязанскую филармонию. На последней стадии переименовали в Государственный камерный хор Министерства культуры СССР. Вот так возникло это глупейшее название. Но главное — мы стали профессиональным коллективом и через месяц пели в Большом театре на концерте, посвященном Есенину.
— Как произошло объединение хора и оркестра?
— Эта история связана с Геннадием Рождественским, который возглавлял Симфонический оркестр Министерства культуры СССР. Геннадий Николаевич — мой учитель, наши коллективы часто выступали вместе, я работал у него ассистентом, и, конечно, он знал о моей мечте создать при хоре оркестр. Однажды сказал: «А что? Давайте объединимся».
Начинались 90-е годы — время тяжелое. Министр культуры Николай Губенко удивительно точно понимал происходящее — когда все разваливалось, мы с его помощью, наоборот, объединились. Рождественский провел один концерт в декабре 1991-го, уехал на гастроли и, вернувшись, уволился. Когда я приступил к работе, музыкантов в оркестре осталось процентов двадцать — все создавали заново. Помогли мои старые ученики, друзья-профессора и то, что на меня уже были сделаны гастроли в Италию. Летом я вышел к новому собранному оркестру, а в сентябре мы отправились в Италию, где нас хорошо приняли. Сыграли свою роль и мои контракты с английской фирмой Chandos — с ними мы записали около ста дисков. Когда все сидели без работы — мы имели ее в избытке. Это была Божья благодать.
— Как вас свела судьба с Альфредом Шнитке?
— В студенческую пору мы знали заочно Шнитке, Губайдулину, Денисова, слушали их музыку на камерных вечерах — они были фигурами одиозными в то время. Шнитке я знал в лицо, потому что он появлялся у Рождественского, и Геннадий Николаевич ценил его очень высоко. Как-то в Союзе композиторов я встретил музыковеда Марину Нестьеву, которая со слезами на глазах произнесла: «Валера — ты человек самостоятельный и ничего не боишься. Знаешь, Альфред написал Реквием, но нет хора, никто не берется. Посмотри ноты». Я сразу ответил: «Смотреть не буду, я согласен, потому что Шнитке». Не буду вдаваться в подробности, но Реквием мы вставили в программу своего концерта, и я пригласил Альфреда Гарриевича на репетицию. Он был в восторге, ему понравилось то, что я делаю. Так мы познакомились, начали общаться, разговоры становились все интереснее и откровеннее. Однажды он предложил перейти на «ты». «Хорошо, Альфред Гарриевич», — сказал я, вызвав его улыбку. Потихонечку мы все-таки перешли на «ты». Шнитке не пропускал ни одного нашего выступления, слушал всего Бортнянского и очень нас хвалил.
Спустя годы мы исполнили премьеру кантаты «История доктора Иоганна Фауста», позже выпустили программку. Это — отдельная история. Меня к этому сподвиг большой мой старший друг, блистательный знаток хорового искусства Константин Петрович Виноградов, который учился и долгое время работал, как он говорил, у Гнесиных, сотрудничал со Станиславским, Данилиным, Краснознаменным ансамблем Александрова. Он показывал старые красочные дореволюционные программки, над которыми работали потрясающие художники. Я ими загорелся и выпускал к ряду премьер подробные программки с рисунками. Одной из них стала программка к «Фаусту» с текстом в потрясающем эквиритмическом переводе Виктора Шнитке. Мало кто знает, что брат композитора был не менее гениален в своем деле. Из-за опубликованной фразы «И войдем с Господом Богом в Царствие небесное...» нам многое рубили. В Питере, к примеру, задержали концерт на 40 минут — запрашивали Москву, можно ли реализовывать программки. После премьеры «Фауста» я начал приставать к Альфреду с просьбой написать что-нибудь для хора, но он все тянул...
— Он ведь посвятил вам два произведения.
— Как-то он позвонил, и мы больше часа разговаривали по телефону о концертах Бортнянского, «Литургии» Чайковского, «Всенощной» Рахманинова — о большой хоровой музыке. На следующий день мы вместе были на «Декабрьских вечерах», слушали «Поворот винта» Бриттена, и в гардеробе он повернулся ко мне: «Полянский, ты ужасный человек. Вчера поговорил с тобой, лег спать, а ночью проснулся и чувствую — надо писать, в два часа ночи написал три хора» и протягивает три листочка с нотами, еще без текста. Я проявил наглость: «Почему только три? В цикле как минимум шесть должно быть».
Прошло еще время, и Альфред нашел текст из поэтического сборника Григора Нарекаци — армянского монаха. Мы как раз собирались на Стамбульский фестиваль, и премьера Хорового концерта Шнитке прозвучала в церкви Святой Ирины 14 июля 1984 года. У нас там было два концерта, но по просьбе меценатов мы повторили программу еще раз. Потом Альфред дописал еще три части, в результате родился четырехчастный концерт, длящийся 50 минут, впервые мы его представили в Итальянском дворике Пушкинского музея, а после концерта в Чехословакии газеты писали о нашем выступлении как о «звездном часе» фестиваля «Пражская весна»-87. На следующий год записали Концерт в Софийском соборе Полоцка — в третьей Софии на Руси. Еще Шнитке сочинил для нас кантату «Стихи покаянные» для смешанного хора без сопровождения. Его рукописи храню, бумага почти истлела, а надпись Альфреда осталась.
— Откуда у вас такая тяга к небольшим городам? Калуга, Таруса, Торжок, Елец... А в Полоцке вы проводили свой фестиваль.
— Знаете, мой опыт доказывает: чем дальше от столицы, тем у людей больше пытливого интереса, жажды к серьезной музыке и открытого эмоционального отклика. Мы должны заинтересовывать слушателей, прививать им вкус, увлекать. Не должно быть в России городов, где люди никогда не слышали живой симфонический оркестр. В Полоцке записали часть концертов Бортнянского и провели немало концертов — удивительное было время. Все держалось на одной потрясающей женщине — директоре Полоцкого музея-заповедника Татьяне Давыдовне Рудовой. Она приезжала на наши выступления, и после одного из них подошла ко мне: «Приезжайте к нам, я сделаю заявку в Союзконцерт». Нам выделили деньги, какие-то средства нашлись у Полоцка — очаровательная дама всех в родном городе подняла на уши. И в течение пяти-шести лет, пока не развалился Советский Союз, я проводил там в апреле свой фестиваль. Приезжали Рождественский с оркестром, Ирина Архипова, Олег Янченко, оркестр из Нидерландов со Львом Маркизом, ансамбль солистов оркестра Большого театра.
— Вы руководите Госкапеллой все тридцать лет — можете назвать ее своим авторским коллективом?
— Не в этом дело. Я стараюсь, чтобы Госкапелла имела свое лицо, неповторимую индивидуальность. Стараюсь строго отбирать репертуар и держать стиль — тот, который я слышу и чувствую, и в нем воспитываю оркестр и хор. Но и они меня воспитывают, такая взаимная у нас работа. Сейчас, учитывая сложное время, трудно достучаться до людей, потому что у всех возникают проблемы. Но делать это необходимо.
— Для вас действительно контакт с людьми важнее профессионализма?
— Для меня это очень важно. Я должен доверять человеку, уважать его, даже при каких-то профессиональных слабостях можно многого добиться. А вот без нормальной атмосферы в коллективе, когда человек скован, зажат, терпеть не может соседа, сидящего рядом, он не будет свободен в музыке, в искусстве.
И еще я глубоко убежден, что ауру своей души человек и несет в зал, хочет он этого или нет. От злого идет зло, от доброго — добро. Это особенно ощутимо при исполнении духовной музыки, или Чайковского, Рахманинова. Даже по тому, как человек вышел, сел за инструмент, можно с достаточной точностью определить, что сейчас будет. От искусства Плетнева, Постниковой, Луганского и других замечательных музыкантов получаешь колоссальное удовольствие, Рихтер, Гилельс, Ойстрах — разговаривали музыкой. Я играл со многими солистами, хотя не очень люблю аккомпанировать — приходится немножко прогибаться. Но есть те, с которыми получаешь удовольствие не только потому, что они настоящие профессионалы, но в музыке раскрывается их нутро. Оно передается, особенно в хоре — через подачу звука, текста, отношения к музыке. Как можно петь «Всенощную» Рахманинова с фальшивой душой?
Миссия музыкантов и артистов вообще — нести гармонию и добро в наш непростой мир. Терпеть не могу эксперименты новомодные. Однажды пошли в модный театр на дорогой спектакль по трагедии Шекспира — после первого действия ушли, и не только мы. Я воспринимаю действие на слух, особенно текст, по интонации, и когда слышу фальшь, то — не могу. Многие спектакли, которые сейчас расхваливают, невозможно смотреть и невозможно слушать. Какие-то из ныне популярных режиссеров, да и музыкантов, начинали интересно, а потом скатывались к балагану, который к нам приходит в основном с Запада.
— Неужели так безнадежно музыкально-театральное дело в руках молодого поколения?
— Нет, не безнадежно, я в этом отношении оптимист, наоборот, особенно если наше дело подпитать финансово. Мой принцип такой — я стараюсь сначала в человеке разглядеть хорошее.
У меня сложились сложные отношения с власть имущими. В 1980-м, когда мы стали профессиональным коллективом, я отвоевал церковь Троицы в Кожевниках и двадцать лет ее реставрировал, прошел через все совещания, субботники, с рабочими пил водку. Придешь в девять утра, прораб сидит: «Давай выпьем». Отвечаю: «Да вы что, ребята, мне ж на работу». Слышу: «Тогда мы сегодня не работаем». Выпиваем: «Ребята, заказчик — наш человек, пошли работать». Добился большемерного кирпича, сусального золота. Старый архитектор Посохин приходил, смотрел орнаменты XVIII века, советовал. И в одночасье храм отобрали, ничего не дав взамен. Спасибо Карену Георгиевичу Шахназарову — за аренду на «Мосфильме», где работаю с оркестром. Есть тесный офис на Пятницкой улице — там репетирую с хором и солистами. А вообще-то мы — бездомные. Живем, и слава Богу.
— Как складываются поколенческие отношения в коллективе?
— На то, чтобы вырастить хорошего хорового певца, уходит три-пять лет, хотя сейчас ребята приходят более подготовленные, но все равно их надо воспитать в нашей традиции. Я артистам говорю (и все сложнее становится быть понятым): сцена и репетиционный зал — святые места, к ним надо относиться, как к храму. Пытаемся воспитывать — я-то уверен, что плохими люди не рождаются, а становятся. Иногда на репетиции думаю — убью сейчас! А потом выясняется: ребенок заболел, теща слегла — нужно входить в положение, но не давать садиться на шею.
— Дирижер — профессия эфемерная, он рождает образы и смыслы из графических формул — нот.
— Моя профессия — передать то, что чувствую, через звуки, через владение своим инструментом. Мой инструмент — хор и оркестр, это — люди живые, их надо любить и уметь прощать. Знаете, как в семье бывает: один — хороший, другой — средненький, третий — совсем плохонький, но всех любишь, а зачастую худшего больше остальных. Бывает, на репетиции сцепишься с кем-нибудь, а потом нормально общаешься, я не злопамятен. Могу обидеться, конечно, но всегда помню, что людям должно быть комфортно на работе. Мы большую часть времени проводим вместе, и если отношения плохие, то и работать неприятно, и не будет результата, а значит, и удовлетворения, а они должны получать удовольствие от того, чем занимаются. Они проучились лет пятнадцать и должны быть счастливы. Я все время внушаю: вам Господь дал талант, возможность заниматься музыкой, так верните долг свой, отдача должна быть.
Никогда не забуду такой случай. Мой младший брат, не имевший никакого отношения к музыке, впервые пришел к нам на концерт, мы пели Бортнянского. После сказал: «Мало что я понял, но здесь (показывает на сердце) защемило». На самом деле, он все правильно понял.
Фотографии предоставлены ГАСК России.


