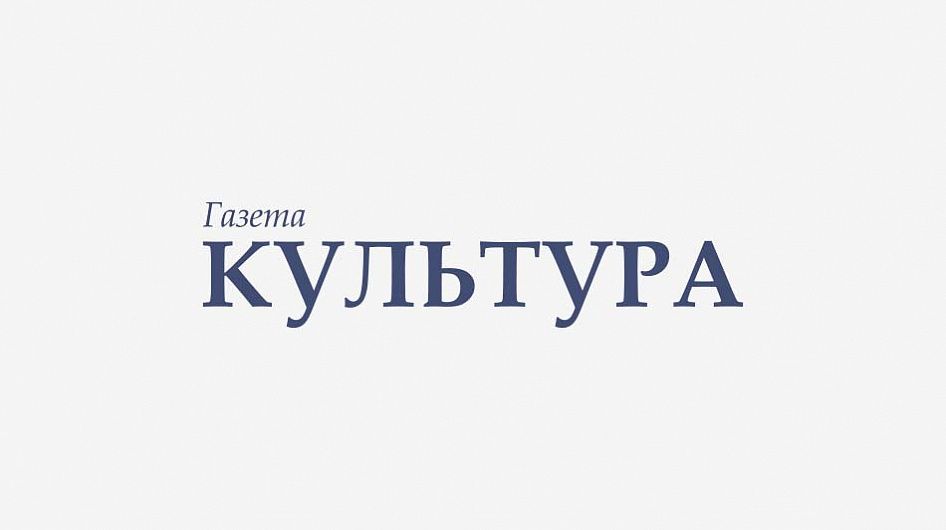
Федор Толстой «Американец»: хороший, плохой, злой
Как социальная фабрика, выпускавшая мачо и альфа-самцов, превратилась в комбинат по производству военных и гражданских бюрократов и Российская империя перестала быть страной безобразников и героев
Родившийся двести сорок лет назад, семнадцатого февраля 1782 года Федор Толстой «Американец», двоюродный дядя Льва Толстого, был одним из колоритнейших людей первой половины XIX века. Дуэлянт, убивший одиннадцать человек. Карточный шулер, разжалованный в солдаты безобразник, дослужившийся до полковника герой войны 1812 года. Враг Пушкина и друг Пушкина, силач, красавец, человек, проживший свой век так, как он хотел и в свое собственное удовольствие: пересказ событий его жизни выглядит как синопсис романа приключений.…1803 год. Толстому двадцать один год, он поручик Преображенского полка и совершает полет на первом в России воздушном шаре, пригрозив не собиравшемуся пускать его в гондолу воздухоплавателю тем, что продырявит шар табельной саблей.
…Летит он вместо того, чтобы быть на учении: полковник устраивает ему разнос перед строем. Толстой перед строем плюет в полковника, а затем простреливает ему плечо на дуэли и исчезает из Петербурга. Он отправляется в морское кругосветное путешествие вместо своего родственника и тезки, который боится качки: одного Федора Толстого подменили другим.
…Он спаивает судового священника и приклеивает его бороду к палубе гербовой печатью. Ссорит направляющегося в Японию посланника Резанова с главой экспедиции Крузенштерном. Дрессирует купленного по случаю орангутана: тот заливает чернилами бумаги Крузенштерна, и Толстого вместе с орангутаном высаживают на Камчатке. В Россию он возвращается сухим путем: без орангутана, но сплошь, по шею, покрытый татуировками. Его задерживают у петербургской заставы и отправляют служить на границу со Швецией, в стоящую на маленьком озерном островке Нейшлотскую крепость.
Это только начало: далее в жизни Толстого «Американца» были и военные подвиги, и выстрелы на дуэли навскидку, вполоборота — но пуля попадала прямо в живот. Он женился на цыганской танцовщице, он потерял одиннадцать детей, по числу убитых на дуэлях противников, и у него осталась только одна дочь. Пушкин вывел его в «Евгении Онегине» как Зарецкого и в «Выстреле» как Сильвио, и он же тот «ночной разбойник, дуэлист», которого поминает Репетилов в «Горе от ума». Но настоящий Федор Толстой был значительнее своих литературных отражений.
Вот как вспоминал о нем его двоюродный племянник Лев Толстой: «…В это время у брата Сергея болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собой дверь. Через несколько минут вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров: он дал тетушке платки и сказал: «Этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал». Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека»
А отлично знавший Федора Толстого Фаддей Булгарин считал, что тот «имел особый характер, выходящий из обычных светских норм, и во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее. Тогда было в моде молодечество, а Толстой довел его до отчаянности».
«О нем можно бы написать целую книгу, — полагал Булгарин, — если бы собрать все, что о нем рассказывали, хотя в этих рассказах много несправедливого, особенно в том, что относится к его порицанию. Он был прекрасно образован, говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу, много читал и охотно сближался с артистами, литераторами и любителями словесности и искусства. Умен он был, как демон, и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, был он, как говорится, добрый малый, для друга готов был на все, охотно помогал приятелям, но и друзьям, и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сраженье, он не знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой карман, у того он имеет право выигрывать».
Ключевые слова здесь «тогда было в моде молодечество». Когда эти слова были написаны, при Николае I, «молодечество» вышло из моды, сильно изменился сам человеческий тип, что сказалось и на Булгарине. Булгарин-авантюрист, сменивший русский мундир на мундир наполеоновской армии, стал литературным филистером, сотрудничавшим с III Отделением. В Федоре Толстом в концентрированном, утрированном виде предстает то, что было характерно для русского дворянства, русского офицерства начала XIX века, гуляк, мотов и рубак, Кульнева, Дениса Давыдова, Милорадовича.
Ровесник Толстого «Американца», будущий шеф жандармов Александр Бенкендорф, в том же 1803 году объехал российский дальний Север, ледяную пустыню, постоянно рискуя или замерзнуть, или утонуть. В войну 1812 года он лихо партизанил, позже на одной кавалерийской лихости взял бельгийские города Лувен и Мехелен. В другое время он стал иным человеком, но в истории русского дворянства этот недолгий период оказался порой внутренне свободных, мало чего боявшихся людей. Очевидно, это было связано со многими причинами.
С тем, что выросло в буквальных смыслах этих слов не пытанное и не поротое дворянское поколение. Старшие из декабристов могли знать Василия Васильевича Головина, человека знатного рода, в молодости попавшего в Тайную канцелярию по неважному делу. Позже он вспоминал об этом так: «...подчищали ногти у меня, бедного и грешного человека, которые были изуродованы. Благодарение Господу — ныне мы благоденствуем!» (Очевидно, ему засовывали под ногти деревянные иглы). Весь остаток жизни в день своего освобождения Головин обращался к домашним со словами: «Друзья мои, не пытанные и не мученные!» (Игорь Курукин, Елена Никулина, «Повседневная жизнь Тайной канцелярии», Молодая гвардия, 2008). А для декабристов тяжелым испытанием оказались кандалы.
А еще потому, что в результате гвардейских дворцовых переворотов дворянство почувствовало свою силу. Тогда тоже было много бедных, живших службой дворян, но делившиеся в равных долях по числу наследников имения еще не раздробились, как в середине-конце XIX века. Немалое число дворян могло существовать без государева жалованья. Россия еще не превратилась в бюрократическую, чиновничью империю, Толстые, Кульневы, Давыдовы. Милорадовичи, Бенкендорфы и тысячи таких, как они, не чувствовали от нее отчуждения — это была во всех отношениях их страна. Офицера могли разжаловать за буйство и озорство, но «лишние люди» тогда не водились. В том, что они не были выдумкой Лермонтова, можно убедиться, прочитав «Дневник» друга Пушкина, младшего современника Федора Толстого Алексея Вульфа, образованного и дельного человека николаевской эпохи, не нашедшего себя ни в Петербурге, ни на службе, закрывшегося в имении.
Оборотной стороной этого были разнообразные военные подвиги, лихие конные атаки, вызывавшая уважение врага стойкость в бою. Россия того времени была военной империей, дворяне — воинами, упомянутое Булгариным «молодечество», храбрость, лихость являлись их естественными чертами. Грубо говоря, современная Федору Толстому бытовая русская дворянская культура была социальной фабрикой по производству мачо и альфа-самцов.
Юрий Тынянов в посвященном Грибоедову романе 1927-1928 годов «Смерть Вазир-Мухтара» писал: «На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа — восставшие бежали по телам товарищей — это пытали время, был «большой застенок» (так говорили в эпоху Петра). Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга».
Это почти стихи, но в николаевскую эпоху время действительно переломилось. На Сенатскую вышли не только «разбудившие Герцена» члены тайного общества, но и те, кто ни в каких обществах не состоял и хотел посадить на престол правильного дворянского царя. Это был последний всплеск дворянской вольницы. Владевший 116 крепостными душами бедняк, князь Щепин-Ростовский в тайное общество не входил, но изрубил турецкой саблей двух генералов, полковника и двух солдат, захватил полковое знамя и отправился на Сенатскую площадь — он оказался достойным продолжателем дела Федора Толстого.
Тынянов метафорами писал о том, что новое, постдекабристское государство превратилось в фабрику по производству военных и гражданских бюрократов. Об этом говорил и Лев Толстой в повести 1856 года «Два гусара». Служивший в гусарах бесшабашный отец пил, играл, был благороден и погиб на дуэли. Сын мелочен и ничтожен, зато ему свойственны «любовь к приличию и удобствам жизни» и «практический взгляд на вещи». Последствия этой метаморфозы проявились во время закончившейся в том же 1856 году Крымской войны.
Вымуштрованные и безынициативные николаевские гусары проявили себя во время нее далеко не так, как современники и собутыльники Федора Толстого в 1812 году.


