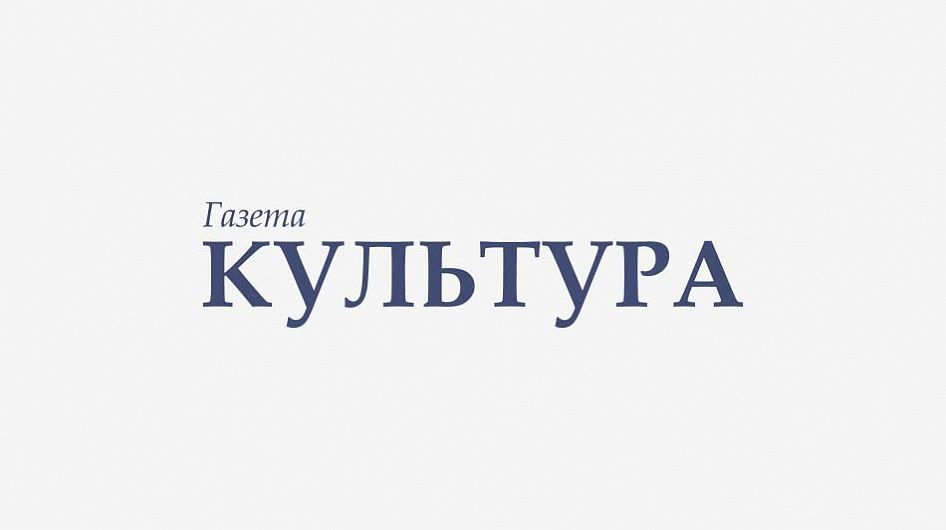
Дневник художницы: Анна Остроумова-Лебедева и ее блокадное творчество
Будущая художница родилась в семье сенатора, тайного советника Петра Остроумова. В ее мемуарах есть такие слова: «Мой отец нам много раз говорил, что он нас не может обеспечить на будущее, что он нам дает хорошее образование, а зарабатывать на жизнь мы должны будем сами. Моя сестра Соня окончила консерваторию, Лиля окончила Высшие женские курсы по химии».
Сама Анна три года отучилась у знаменитого гравера Василия Матэ в Центральном училище технического рисования барона Штиглица. Затем поступила в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. Родители пестовали в дочери самостоятельность, однако ее желание стать художницей не нашло в семье понимания. Впоследствии Остроумова-Лебедева вспоминала: «Мама огорчалась моим похудевшим, утомленным видом. Всякими способами старалась удержать меня дома, находя, что я работаю не по силам. Просила, умоляла. Я с ней соглашалась, ей сочувствовала, когда она плакала — я тоже, но все-таки через несколько минут уносила (на всякий случай) вниз свою шубу и калоши к швейцару и при благоприятном моменте тихонько исчезала из дома... в Академию. Братья, видя огорчение мамы, бранили меня, уговаривали вообще бросить работу, говоря, что если б я была одарена, то мне не приходилось бы так много тратить сил. «Ты просто бездарна!» — говорили они».И все-таки Анна не оставила мысли о художественном поприще, продолжила обучение в Париже, поучаствовала в выставках мирискусников. Задумываясь о дальнейшей судьбе и возможном замужестве, беспокоилась: не помешает ли это работе? Как бы там ни было, союз с Сергеем Лебедевым, выдающимся химиком (в дальнейшем прославился как основоположник промышленного способа получения синтетического каучука), оказался счастливым. Чувство к нему вспыхнуло в 1903 году, но поженились влюбленные лишь два года спустя. Успешный ученый, академик поддерживал талантливую супругу во всем. «Я очень мало зарабатывала со времени революции, — признавалась, рассказывая о себе, художница. — Пока был жив мой Сереженька, я была на его иждивении, а когда он умер, мне просто пришлось сильно сократить расходы на свою личную жизнь».
Из-за астмы она не могла писать маслом и работала акварелью. А кроме того — возрождала в России искусство ксилографии, в том числе цветной. Прежде подобные произведения считались второстепенными, Анна Остроумова-Лебедева сумела показать их красоту и самоценность. Главным источником вдохновения был для нее родной Петербург. Мстислав Добужинский на этот счет свидетельствовал: «Она раньше меня взялась за петербургские темы и умела передавать с особой интимностью его пейзажи. Некоторые, как, например, «Летний сад в снегу» или «Ворота Новой Голландии» и многие другие, были поистине поэтичны, и эти гравюры мне душевно были очень близки».
Много лет спустя о любимом городе (уже с иным названием) художница напишет: «Он в альбоме, в моих вещах был несказанно красив и своей красотой подкупал всех. Я поняла когда-то его «душу», и с тех пор он, покорив меня, отдал себя в мою власть. Для моего искусства он стал источником моего вдохновения... Многие, многие за мою жизнь говорили мне и теперь и раньше, что мои гравюры и акварели, изображающие Ленинград, помогли и объяснили им всю глубину красот моего божественного города. Они говорили, что до меня они проходили мимо его чудных перспектив, ансамблей и набережных, как-то не замечая его поразительной, исключительной красоты».
Коллеги-мирискусники ее работами восхищались, однако в Академии художеств талант Остроумовой-Лебедевой признали далеко не сразу. Впрочем, в конце концов даже самые строгие критики начали относиться к ее творчеству весьма благосклонно. Более того, незадолго до революционных событий художники предложили избрать Анну Петровну академиком.
«Когда остальные члены академии на этом заседании услышали о моей кандидатуре, то подняли очень горячий спор — может ли женщина получить академическое звание? Прения на эту тему растянулись на несколько заседаний и вызвали резкие выступления среди некоторых членов... В конце концов ученый секретарь Лабойко в присутствии Великой Княгини Марии Павловны громогласно заявил, что когда во главе Академии художеств находится Великая Княгиня Марья Павловна, женщина, справляющая свои обязанности президента наилучшим образом, то тогда нельзя отрицать за женщинами их право на признание их заслуг и на оценку их. Спорщики замолчали. И Великая Княгиня согласилась, что женщина имеет на это право. Отвлеченный спор на эту тему прекратился и решен был в положительную сторону. Тогда, кроме моей кандидатуры, были выдвинуты кандидатами З.Е. Серебрякова и художница Шнейдер... Но академиком я все-таки не стала. Следующее заседание Академии художеств никогда не состоялось. И так как бумаги с моим утверждением нужны были для следующего заседания, их не вынесли в архив, а они оставались в столах в канцелярии, которая в последующие дни была разгромлена, и все разметано», — рассказывала много позже художница, которая звание академика получит только в 1949 году.
Крайне неприятных и трагических случайностей в жизни Остроумовой-Лебедевой было немало. Она вспоминала, как трудилась над портретом Брюсова, а потом импульсивно уничтожила работу, надеясь переделать: «И вдруг я поняла, хотя я изображала его с глазами, смотрящими на меня, они были закрыты внутренней заслонкой, и как я ни билась над портретом, не смогла бы изобразить внутренней сущности Брюсова... Одним словом, когда он на другой день пришел позировать, услышав его шаги, я схватила мокрую губку и смыла портрет. По какому импульсу я это сделала, до сих пор не могу объяснить. За минуту я еще не знала, что уничтожу его. Вошел Валерий Яковлевич. Сконфуженно, молча показала ему на смытую вещь. Он посмотрел на меня, на остатки портрета и пожал плечами: «Почему вы это сделали? Он был похож. Но не огорчайтесь, не волнуйтесь, — снисходительно сказал он, — это ничего, это бывает. Вот эту осень я собираюсь приехать в Ленинград и даю вам обещание, что буду вам там позировать». Мы попрощались. Я его больше никогда не видела, а через месяц-полтора пришло известие, что Валерий Яковлевич умер. Я была очень огорчена известием о смерти Брюсова и еще больше стала сожалеть об уничтоженном портрете. Ведь это был последний его портрет!»
Все эти печальные казусы не идут ни в какое сравнение с испытаниями, выпавшими на ее долю в годы войны. Во время блокады она не покинула осажденный город, с болью и отчаянием наблюдала за тем, как уходили в мир иной ее близкие и знакомые: «Умерло одновременно три наших художника: Н. Тырса, Кутетеладзе и скульптор Могилевский, помощник проф. Матвеева. Это известье идет из ЛОССХа, где получены сведенья, что они погибли почти скоропостижно в г. Вологде, объевшись (!?), приехав из голодного Ленинграда... Мне тяжело. Мне грустно. Я скоро буду стоять одна, и около меня никого (!) из моих однолеток, товарищей, друзей. Умер Митрофан Семенович Федоров — мой товарищ по мастерской Репина. Тонкий, умный и своеобразный человек. За месяц до его смерти была убита его жена. Фугасная бомба упала в их комнату и прямо на кровать, где в то время она лежала. Говорят, и следа от нее не нашли».
Голод, невыносимые условия блокадного быта причиняли огромные страдания и ей самой, и всем, кто был рядом. «Очень холодная весна. Еле-еле появляются на деревьях сморщенные листочки, — читаем в ее дневнике. — Показалась кое-где крапива, цикорий (одуванчик). Народ с жадностью накидывается на только что показавшиеся из земли зеленые растеньица и выкапывает их с корнями. Сегодня у меня с Нюшей был такой обед: суп из нами нарванной молодой крапивы. В него насыпано 1 ½ столовой ложки манной крупы (последняя) и на второе салат из зелени одуванчиков с каплей уксуса и каплей (буквально) постного масла. Чашка чая без сахара. И вот как странно — я не боюсь умереть, хочу уйти из этого мира, а когда начинается бомбежка или свист артиллерийских снарядов — меня начинает трясти и делается сердцебиение».
Чтобы добыть хоть немного съестного, приходилось рисовать портреты, которыми автор порой закрывала дыры в прохудившейся кровле. Еще труднее было расставаться с вещами, оставшимися в память о бесконечно любимом муже (умер еще в 1934-м от сыпного тифа, заразившись в командировке).
«Сегодня рисовала портрет одной комсомолки — Таси, продавщицы в булошной. За портрет она мне заплатила 1 килограмм хлеба и 500 гр. булки... Т. к. мы не могли достать ни одного нового железного листа или листа толя, то пришлось крышу чинить моими этюдами, сделанными масляными красками по грунтованному, старому холсту. Крыша пока перестала протекать...
Обмен таков: хорошие, хотя подержанные брюки из заграничного сукна — 2 кило крупы, мохнатое полотенце — 400 гр. хлеба». Не менее тяжелым ударом стала для нее необходимость продать свои книги: «С некоторыми расстаюсь очень болезненно. Точно друга близкого и задушевного теряю. Платят гроши. Эти гроши идут на покупку молока и овощей».
Мысль о расставании с дорогим пристанищем, квартирой, в которой они с Сергеем Васильевичем были счастливы много лет, казалась ей невыносимой. «На каждом предмете, на каждой вещи, мебели покоились глаза моего драгоценного мужа. Все мне в этой квартире его напоминает. Если я уеду, то как будто совсем, второй раз его потеряю... Они мне предложили, если я сегодня дам им согласие, послезавтра на самолете отправить меня в Москву и там устроить меня в хорошую санаторию. Я отказалась. Я им сказала: «Что я там буду делать? Без архива, дневников, без всякого нужного материала... А потом, дав мне пожить две недели в санатории, попросить меня удалиться? Куда? Чем жить? Так долго жить и страдать в Ленинграде, чтобы перед самым его освобождением покинуть его! Я не могу жить и не работать! Сидеть в санатории среди чужих людей и только пить и есть! А дальше что? Нет! Нет! Я отказалась», — эти и другие подобные свидетельства есть в «Автобиографических записках», над которыми Анна Остроумова-Лебедева начала работать еще в предвоенные годы. Осенью 1942-го она записала: «Сегодня окончила новую гравюру — Петр Великий Фальконета. Сделала ее в три дня. Работала с упоением, со страстью, с восторгом. Чувствовать, как инструмент бегает по блестящей доске, и им управлять — да, вот это чувство ни с чем не сравнимо! Это просто божественно! Боялась, очень боялась начинать. Года четыре тому назад, как резала последний раз ex-libris для Митрохина. С тех пор много воды утекло. Сил убавилось, сердце не так работает, рука дрожит. Но как только взяла инструмент, сразу почувствовала прежнюю уверенность, гибкость и послушание в моей руке, и я сразу начала с самого опасного и ответственного места. Решила, если здесь сорвется, то не буду дальше продолжать гравюру. Резала я очень осторожно, в рискованных местах оставляя запасы. Но первый же оттиск меня успокоил».
Трудиться доводилось в тяжелейших условиях, о чем нам также поведал дневник художницы: «Сегодня в комнате было 6°+. Стынут руки и опять стали набухать кончики пальцев и больно ими до чего-нибудь дотрагиваться... Еще в прошлом году, на ул. Марата, я простудила левую руку, когда лежала после воспаления легкого в постели и в левой, высунутой руке держала книгу. Сейчас она очень болит и три пальца не до конца сгибаются. Пробовала надевать перчатки — неудобно».
Литография «Мальчики удят рыбу» (1942) зафиксировала пронзительную и трагическую красоту осажденного Ленинграда. Гравюра «Сфинкс» была воспроизведена на пригласительных билетах, выпущенных по случаю первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича. Открытки с запечатленными художницей видами Северной столицы издавались даже в тяжелые в годы Великой Отечественной.
После войны Анна Петровна завершила свою работу над трехтомными «Автобиографическими записками», а в мае 1955 года обрела покой там, где мечтала остаться навсегда, — в родном Петербурге, на Тихвинском кладбище.
Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».


