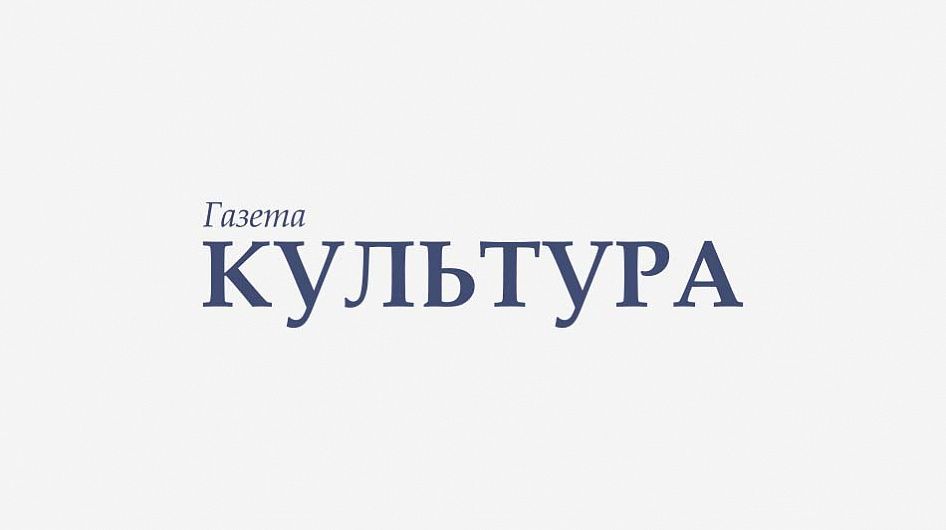
Воздаяние по трудам: чем Россия обязана Игорю Грабарю
Игорь Грабарь одарен был всесторонне — художник, ученый, критик, идеолог искусства... Он создавал картины, которые закономерно оказались в главных европейских и российских музеях, писал чрезвычайно важные статьи и многотомные научные труды, утверждал принципы научной реставрации, спасал исторические памятники и церковные ценности.
Его жизнь с первых дней изобиловала неординарными фактами. Он появился на свет в Будапеште. Отец был известным галицко-русинским общественным деятелем, некоторое время — депутатом венгерского парламента. Мать — дочь лидера закарпатских русинов Адольфа Добрянского, в 1882 году их обоих обвинили в «панславистической пропаганде» с целью отделения от Австро-Венгрии и присоединения к России Галиции, Буковины, Угорской Руси. Громкое дело, вошедшее в историю как «процесс Ольги Грабарь», в итоге развалилось в суде, отец и дочь были оправданы.Любопытно, что в пору юности будущий художник числился в документах как Храбров: эту фамилию взял себе глава семейства, Эммануил Иванович, когда переехал (1876) в Россию (жена и дети перебрались к нему несколько лет спустя). Лишь по окончании Санкт-Петербургского университета Игорь, обучавшийся там на юрфаке, вернул себе законную фамилию.
Изобразительным искусством он заинтересовался еще в детстве. Много лет спустя вспоминал: «Я целыми днями рисовал, изводя пропасть бумаги. Рисовал все, что взбредет в голову, но больше всего любил срисовывать из «Нивы» портреты генералов». Рассказывал и о том, как однажды пришел в гости к учителю рисования, и чем в итоге тот визит обернулся: «В руке он держал палитру с ярко горевшими на ней свежевыдавленными красками, а на табурете лежал ящик, наполненный блестящими серебряными тюбиками с настоящими масляными красками. Он при мне выдавил несколько красок. Я думал, что не выдержу от счастья, наполнявшего грудь, особенно когда почувствовал сладостный, чудесный запах свежей краски. Посещение Ивана Марковича решило мою судьбу».
Родители были стеснены в средствах, однако хотели дать сыну хорошее образование. Как ни странно, помог в этом «процесс Ольги Грабарь». В своих мемуарах Игорь Эммануилович сообщил: «Основатель и директор Московского лицея цесаревича Николая и влиятельный редактор и издатель «Московских ведомостей» М.Н. Катков согласился принять меня живущим стипендиатом в свое заведение».
В 1882-м будущий живописец поступил в лицей, где среди детей генералов и министров чувствовал себя одиноко: «Единственное, что... осталось, — бежать по субботам из лицея. Суббота и канун праздника были самыми счастливыми днями». К тому же периоду относятся и первые успешные художественные опыты. Грабарь часто писал портреты одноклассников и сотрудников учебного заведения.
«Лучше всех удался служитель по прозвищу Карась, — читаем в мемуарах художника. — С белой щетиной волос, с выпученными зелеными глазами, он действительно напоминал карася... Не помню, кто у меня выпросил тогда этот этюд, производивший фурор, но, кажется, кто-то из гувернеров или преподавателей, хотевших во что бы то ни стало показать его Каткову. Говорили, что Карася ему действительно показали, и это похоже на правду, так как вскоре же после этого я был позван в его кабинет и удостоился лично от него получить лестный заказ: придумать и нарисовать форму для лицеистов, которую тогда предполагалось ввести. Мы окончили лицей еще без формы. Я сочинил рисунок в типе формы Царскосельского лицея, как мне и было заказано Катковым, с треуголкой и шпагой, но треуголку и шпагу не утвердили. Утвержденный Александром III мой рисунок Катков мне потом показывал, вызвав меня опять «пред свои ясные очи».
В 1889 году теперь уже бывший лицеист поступил на юридический факультет университета и вскоре решил попробовать себя на литературном поприще, о чем в своих воспоминаниях позже поведал: «Я выбрал из своего лицейского сборника юмористики вещи поудачнее и начал их перерабатывать, выправляя стиль и заостряя юмор. Пять вещиц, казавшихся мне наиболее подходящими для «Стрекозы», я снес в редакцию журнала, на Фонтанку. За ответом просили зайти «недельки через две». Я не вытерпел и зашел через неделю. Секретарь редакции меня встретил как старого знакомого и, крепко пожимая руку, сказал:
— Ну поздравляю, — единственный случай на моей памяти: у всех начинающих, как общее правило, из десяти вещей хорошо если берут одну, а у вас из пяти — сразу все, да еще без изменений. Начало чертовское».
Учась на втором курсе, Игорь Грабарь пытался переключиться с юмористики на серьезную литературу, начал сотрудничать с «Нивой». Собственные способности не переоценивал, на место в пантеоне писателей не претендовал:
«За несколько лет до моего приезда в Петербург в юмористических журналах участвовал еще А.П. Чехов, помещавший в них, под псевдонимом «Антоша Чехонте», те самые чудесные рассказы и сценки, которые впоследствии вошли в его сборники и в собрание сочинений, а сейчас инсценируются в виде театральных миниатюр. Он печатался главным образом в «Осколках» и «Будильнике». Публика читала эти рассказы с таким же чувством, как и весь остальной юмористический балласт этих журналов, но мы, «жрецы», знали цену своей меди и его серебра. Для нас уже тогда было ясно, что он — писатель, а мы только присяжные юмористы».
В студенческие годы Грабарь обнаружил в себе склонности к разным областям науки и искусства:
«Моя жизнь потекла по трем различным руслам — научному, литературному и художественному. Каждое из них представляло собою замкнутый круг самодовлеющих интересов, мыслей и чувств, но так как они без остатка заполняли весь мой день, чрезвычайно удлиненный по сравнению с обычным студенческим днем, то я их воспринимал тогда и переживаю в своих воспоминаниях сейчас, как единую целостную, бесконечно увлекательную, ибо до отказа насыщенную впечатлениями, радостную жизнь».
В 1894 году он поступил в Академию художеств, в которой незадолго до этого прошла кардинальная реформа (в частности, место консерваторов заняли Репин, Шишкин, Куинджи). Однако ему там вскоре наскучило, и в 1896-м Грабарь уехал в Европу, где познакомился с новейшими течениями. Случайно заглянув в Париже в лавку Волара, открыл для себя Мане, Ван Гога, Гогена, Сезанна. Любопытно, что 10 лет спустя в том же месте Игорь Эммануилович увидел работы никому не известного тогда Матисса и сразу же распознал руку большого мастера:
«Я заметил очень меня пленивший большой холст, изображавший обеденный стол с фигурой горничной, поправляющей букет цветов на столе. Вещь была сильно написана, хотя и несколько черновата. В ней был прекрасный общий гармоничный цветовой тон. Я просил Волара дать сфотографировать эту вещь или достать с нее фотографию, если она имеется, которая нужна мне для помещения в лучшем модернистском журнале «Мир искусства». Журнал, оказывается, был ему знаком, и он назвал мне имя автора картины, прибавив, что он будет счастлив познакомиться с человеком, который хочет воспроизвести ее, в Париже никому не нужную и не интересную. Имя его было Анри Матисс, никому в Париже неведомое, кроме тесного круга друзей. На следующий день в условленный час Матисс пришел, сказав, что ему действительно хотелось видеть человека, решающегося воспроизвести его картину: его вещей никто не воспроизводил».
Чуть позже Грабарь перебрался в Мюнхен, где на тот момент образовалась русская колония, поступил в частную художественную школу Антона Ажбе (через нее в разные годы прошли многие известные художники, в том числе Добужинский, Кандинский, Петров-Водкин). Этот этап творчества Игорь Эммануилович счел впоследствии неудачным: «Почти все сделанные здесь вещи я уничтожил на одном из тех аутодафе, которые я до поры до времени устраивал в свои мюнхенские годы, в дни особых сомнений и усугубленного презрения к собственным упражнениям. Я сжег не менее сотни досок, холстов и картонов, отдавая себе ясный отчет, что человечество от этого ничего не потеряет».
В 1903-м он вернулся в Россию. Начался самый плодотворный в его жизни период: участие в выставках объединения «Мир искусства» и заграничных смотрах, работа над пейзажами (неизбежное следствие очарования красотой русской природы), знакомство с художником Николаем Мещериным и 13-летнее пребывание в его усадьбе Дугино. Об этих годах Игорь Грабарь вспоминал: «<Они> были самыми кипучими как в моей художественной деятельности, так и в деятельности литературной, архитектурно-строительной и в значительной степени в музейной». Далее речь идет о картине «Утренний чай»: «Писал я эту вещь с особенной любовью и долго, сеансов десять. Окончив, я понял, что пока это лучшее из всего мною написанного. Ее оценили, однако, только за границей: ни Третьяковская галерея, ни Русский музей не заикались о ее покупке, и она ушла за границу. Только значительно позднее, за год до смерти, Серов, вернувшись из Италии, сказал мне:
— Видел в Риме ваш самовар. Он там на почетном месте, в Национальной галерее. Черт знает, как мы его с Остроуховым прозевали».
С 1909-го по 1914-й Игорь Эммануилович, забросив живопись, занимался наукой, архитектурой, общественной деятельностью, являлся редактором «Истории русского искусства» (в советское время под его редакцией был выпущен одноименный 13-томник). В те годы по проекту Грабаря в духе палладианской архитектуры был возведен под Москвой санаторий «Захарьино». Правда, мастер остался недоволен творением: «Не успел я окончить стройку, как мне она уже разонравилась. Я видел множество недостатков, от которых надеялся отрешиться в следующих постройках. Им, однако, не суждено было осуществиться».
В 1913-м его избрали попечителем Третьяковки. На этом посту он первым делом предложил кардинально поменять развеску картин, организовать ее на основе историко-художественного принципа. Идея встретила серьезное сопротивление — многим хотелось, чтобы в галерее все оставалось так же, как при ее создателе.
«Они, вместе и во главе с Остроуховым, утверждали, что все картины, находившиеся в галерее к моменту смерти Третьякова, не могут быть передвигаемы и перемещаемы: в этой части все должно оставаться в том виде, как было при «незабвенном», — сетовал впоследствии Грабарь. И все-таки, пусть и ценой некоторых уступок, ему удалось своего добиться. Также он занялся инвентаризацией собрания Третьяковки, атрибуцией картин: «Знаменитый портрет... Екатерины II, с полной подписью: «Писал Боровиковский», оказался произведением Рокотова, а подпись Боровиковского — поддельной. Портрет Державина работы Левицкого оказался не Державиным и не Левицким; портрет сенатора с подписью Д. Левицкий — не работой Левицкого, а подпись — поддельной и т.д.».
После революции выдающийся художник сыграл огромную роль в сохранении древних памятников и произведений церковного искусства. В 1918 году по его инициативе была основана Всероссийская комиссия по сохранению и раскрытию древнерусской живописи. В 1924-м она была преобразована в Центральные государственные реставрационные мастерские (ныне — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря). Сотрудники этой организации ездили спасать шедевры древнерусского искусства во Владимир, Новгород, Псков, уберегли, к примеру, фрески Феофана Грека в церкви Спасо-Преображения. В Московском университете Грабарь читал новаторский курс по практике и теории научной реставрации.
В 1944-м был создан Институт истории искусства и охраны памятников архитектуры при Отделении истории и философии АН СССР (ныне — Государственный институт искусствознания), которым Игорь Эммануилович руководил до 1960-го.
После войны он выступил с предложением провести реставрационные работы в Андрониковом монастыре и организовать там Музей древнерусского искусства Андрея Рублева. Значение многогранной, зачастую подвижнической деятельности Игоря Грабаря переоценить невозможно, а сам он полагал, что добиться огромных успехов ему удалось благодаря постоянной работе:
«Помните, что человек при настойчивости и трудовой дисциплине может достигнуть невероятных, почти фантастических результатов, о которых он никогда и мечтать не дерзал. Но помните также, что никогда ни один день не следует довольствоваться достигнутым результатом. Я знаю, что сегодня я умею больше, чем вчера, но завтра буду уметь больше, чем сегодня, а послезавтра — еще больше. С этой верой и в этом убеждении я ежедневно сажусь за мольберт, и нет человека, который мог бы меня сбить с моего пути и разуверить в моей вере».
Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».


