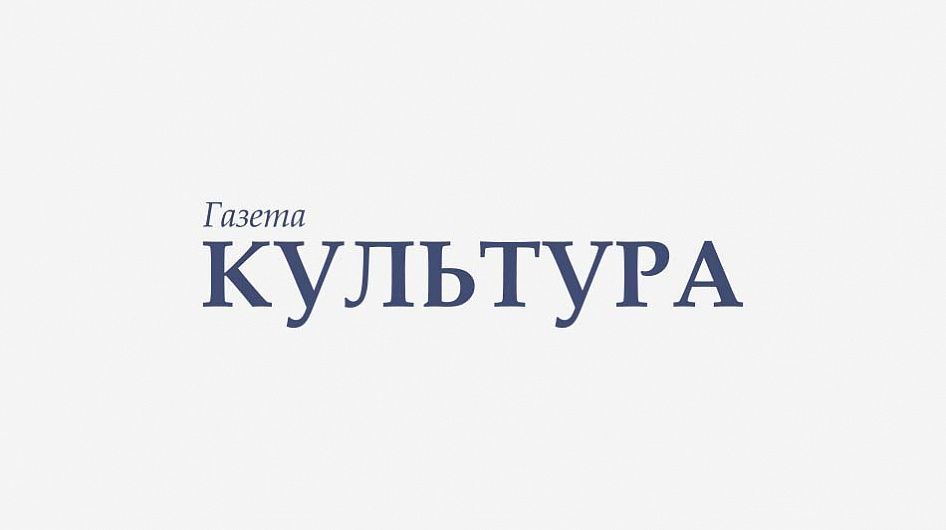
Никита Михалков: «Моя нелюбовь к чванству чиновников и гигантскому воровству не умаляет моей любви к Отечеству»
21 октября исполнилось 75 лет выдающемуся советскому и российскому кинорежиссеру и актеру Никите Сергеевичу Михалкову. Газета «Культура» поздравила его с юбилеем, но наш разговор с мэтром получился отнюдь не умиротворенным. Режиссер и актер Никита Михалков превратился сегодня в ключевую фигуру культурной и духовной оппозиции России. Оппозиции, которая защищает право русского человека на свою национальную самобытность, свою историю и свои ценности. Все это, по большому счету, и помогает нам оставаться людьми в современном мире, где человек начинает восприниматься исключительно как объект для манипулирования и получения дохода.
— Никита Сергеевич, вы до нашего интервью несколько часов записывали новый «Бесогон». О чем он, если не секрет?— Этот «Бесогон» о том, что, наверное, хватит нам оправдываться, постоянно просить у мира доказательств собственной вины. Мы все время опаздываем. Дожидаемся, пока нас начинают обвинять, требуем в ответ «доказательств» и в итоге не получаем их. Но в сознании людей во всем мире остается осадок, что мы вроде бы и сознались. Давно пора в этом смысле не обороняться, а переходить в наступление. Абсурдная история с Навальным еще раз показала: ничего объективного, искреннего и уважительного России со стороны Запада ждать не приходится. Принимать участие в этой кукольной игре унизительно. Мы должны опережать события, а не объясняться все время. Россия имеет полное право на собственное мнение и собственные интересы, исходя из всех параметров: масштаба страны, масштаба нашей истории и культуры. Не надо стесняться их озвучивать.
— Каждый «Бесогон» вызывает, без преувеличения, национальный резонанс. Почему? Вы как-то иначе подаете новости?
— Думаю, потому, что люди чувствуют: я говорю о том, что меня волнует. Если на какие-то вопросы я не могу дать ответа, то иногда правильно поставленный вопрос вернее самого ответа, потому что заставляет думать, анализировать и пытаться принять правильное решение. Еще одна очень важная вещь — это то, что мы осознанно отказались от рекламы — не потому, что наша программа дешево стоит, не потому, что у нас столько денег, что мы их не считаем, а потому, что, когда твоя мысль прерывается рекламой, выталкивая зрителя с тех рельсов, на которые мы вместе встали, это мешает восприятию и разрушает атмосферу и логику движения мысли. А кроме того, хотим мы того или не хотим, но абсолютно подсознательно мы становимся зависимыми от рекламодателя. Еще обратите внимание, что мы никогда не просим ставить лайки и не заигрываем со зрителем, потому что я совершенно уверен, что искусственно поддерживать к себе интерес можно недолго, а даже если и долго искусственно поддерживать к себе интерес, то качество этого интереса сильно девальвируется.
— А может быть, это связано еще и с тем, что вам лично многие у нас в стране доверяют?
— Я не считаю себя эдаким «гуру», который все знает, и для меня каждая передача — огромное волнение. Поймут ли меня люди, услышат ли? Но одно могу сказать совершенно определенно, что, если мы о чем-то говорим, это значит, что мы не можем об этом не говорить, это нас волнует и это важно. Посмотрите на отклики на нашу передачу в комментариях под каждым из наших выпусков, и вы поймете, что здесь мы не ошибаемся. Здесь как раз и есть тот самый стимул, ради которого стоит всем этим заниматься — ради наших зрителей. И, с другой стороны, обратите внимание, с какой яростью нас стараются оболгать, унизить, ошельмовать. Это иллюстрирует намного сильнее значение нашей передачи, нежели огромное количество лайков, которые подавляюще превалируют над дизлайками. И если вы заинтересуетесь, вы увидите, что 95–98 процентов наших зрителей придерживаются нашей точки зрения. А еще очень важно, и это большое счастье, когда в комментариях ты можешь прочесть такую фразу, написанную молодым человеком: «После Вашей передачи я стал читать книжки». Когда-то герой картины «8 1/2» великого Феллини, которого играл не менее великий Мастроянни, сказал: «Я хочу говорить правду, которую не знаю, но которую ищу». Наверное, я мог бы повторить эти слова.
— Вы начинали в кино, кино — ваша изначальная стихия. Что заставило проделать такой необычный путь, прийти к тому, что вы сидите в этом кабинете перед миллионами телезрителей и беседуете с ними, обсуждая наши национальные приоритеты?
— Вы знаете, я не могу вам назвать точной даты, когда эта мысль пришла в голову, так же как не мог бы назвать тот день, когда захотел стать режиссером. В моей жизни очень многое, да и почти все основополагающее, происходило каким-то незаметным естественным путем. Как воздух, которого не замечаешь, но без которого не можешь — великолепнейший образ Ивана Бунина. И что для меня, честно скажу, наиболее важно и дорого, что Господь даровал мне возможность избежать той турбулентности, которая бывает, когда твое мнение изменяется вместе с изменением генеральной линии партии. Я недавно случайно наткнулся на программу «Взгляд» 94-го года с моим участием, и изумился тому, что прошло уже почти 30 лет, а под тем, что говорил тогда, могу подписаться и сегодня. Кто-то может назвать это консерватизмом, заскорузлостью, отсутствием развития. Воля каждого — считать, как ему кажется. Но для меня это счастливое доказательство тому, что твое существо, то, что вложено в тебя твоими предками, твоей семьей, остается незыблемым в своих принципиальных моментах, вне зависимости от того, как меняется мир вокруг тебя. И поэтому «Бесогон» не выполняет ничей заказ, мы не находимся в зависимости ни от каких группировок, партий или фондов.
Много раз мне предлагали организовать свою партию, движение, но я всегда избегал этого. В какой-то степени это страх, что если я не смогу сохраниться тем, кто я есть, если окажусь в условиях какого-нибудь партийного устава, который потребует от тебя — и, надо сказать, справедливо — подчиняться принципам той или другой партии.
Это не значит, что я боюсь быть непринципиальным, это значит, что рано или поздно любая партия поневоле изживает те принципы, по которым она начала существовать. А надежд, что все члены партии смогут изменяться вместе с условиями жизни, оставаясь самими собою, довольно мало. Если и есть для меня то, что является основополагающим и незыблемым в любых ситуациях и условиях, — это православие. И мне в этом смысле проще, чем многим другим — тем, кто пришел к вере в зрелом возрасте, выйдя на этот путь через сомнения и обман. Я очень уважаю этих людей и их путь, по которому они пришли в храм. К моему счастью, ко мне это пришло в детстве от мамы.
— Мне кажется, что ваш масштаб далеко выходит за пределы вашей основной профессии — кино и театра...
— Не хочу определять свой масштаб, пусть другие его оценивают. Я занимаюсь тем, что мне интересно, что, мне кажется, я умею. Я не хотел бы, к примеру, стать влиятельным чиновником, депутатом Госдумы, ходить с утра в галстуке и вписываться в какую-либо структуру. Но это вовсе не значит, что я не уважаю труд этих людей, особенно тех, кто работает честно и приходит во власть, потому что они лучшие, а не потому, что заплатили и воспользовались знакомствами. Мне кажется, что я больше пользы могу принести, находясь вне властных структур. Это позволяет мне быть абсолютно свободным в поисках ответов на насущные вопросы, не оглядываясь на необходимость быть формальным членом какой-либо команды. И не нужно здесь видеть высокомерия или гипертрофированного эгоцентризма. Просто мне кажется, что люди, приходящие к тебе не потому, что за тебя голосовали, а потому, что им близко то, что ты говоришь, и они никак от тебя не зависят, это люди, которые в большей степени могут самостоятельно мыслить и соглашаться или не соглашаться с тобой, оставаясь независимыми.
Возможность сказать то, чего я не мог бы сказать, будучи кем-то, — для меня свобода, которую я не хочу на что-то променять. Понимаете, даже когда делаешь что-то свое за чужой счет — государства ли, канала ли, или мецената, — все равно ты будешь вынужден оглядываться на кого-то, кто стоит за твоей спиной. Кстати, именно поэтому мы все делаем за свой счет, таково было мое условие, когда нас пригласил к себе канал «Россия 24». Вы мне доверяете, «не режете», не цензурируете, а я даю вам бесплатно качественный контент. И так мы работали довольно долго и, поверьте, успешно. Наша программа с каждым разом набирала все больше и больше зрителей, но в итоге все лопнуло довольно примитивно и обидно просто — языческие корпоративные страхи потерять благорасположение кого-либо из сильных мира сего, в данном случае «всесильного» Грефа, заставили совершить то, что попросту является нарушением закона о цензуре. Передачу сняли с эфира.
И, честно говоря, я могу понять тех, кто вынужден пойти даже на это, чтобы не обидеть крупнейшего рекламодателя и лоббиста, но мне жалко, что те, от кого зависит сознание людей, предпочитают не видеть и трезво оценивать происходящее и не хотеть понять той опасности, например, которая существует, — создание господином Грефом и его командой личной империи за государственный, сиречь за наш, счет. На наших глазах создается конструкция, главной целью которой является маниакальное желание как можно большее количество людей сделать зависимыми от себя и своей компании. Да, для крупных бизнесменов это заветная мечта, но тогда делать это надо за свой счет, а не за счет государства и налогоплательщиков, потому что это лишает систему возможности быть конкурентоспособной, это ничем не оправданные приоритеты, которые позволяют тебе распоряжаться государственными средствами как своими, чего не имеет ни один коммерческий банк. И хотя я не могу похвастаться тем, что я знаток банковского дела, но чисто по-человечески и по-граждански я считаю это несправедливым и опасным. И, кроме того, я совершенно уверен, более того — знаю, что большинство граждан нашей страны, кто-то по знанию, а кто-то интуитивно, чувствуют эту опасность, но ничего не могут сделать.
— Мне кажется, у вас есть образ того, какой должна быть Россия, и через «Бесогон» вы пытаетесь донести, в чем разница между реальностью и идеалом.
— Наверное, да.
— А что это за образ? Есть у вас представление об идеальной России, какой она могла бы быть?
— Считается, что сослагательное наклонение неприемлемо в истории, хотя это неправда. Если мы так относимся к истории, то теряем вариативность — а что, если бы? А это очень важно, что было бы. Я считаю, если бы Россия развивалась так, какой видел ее в начале прошлого столетия Столыпин, это стала бы абсолютно недосягаемая страна. Именно поэтому Столыпина и убили. За его понимание русского человека, русского крестьянина, за его политическую храбрость, зрелость, конкретику... Человек, который может оскорбившему его с трибуны депутату Госдумы в перерыве между заседаниями прислать секундантов, что заставит того, потея и путаясь, извиняться с той же трибуны... Я считаю, что та самая Россия, которая двинулась при Столыпине на восток, с этим беспроцентным кредитом Крестьянского банка, с переселением людей... вот это движение, пускание корня настоящего, реального, мощного сделало бы страну не столь сконцентрированной на ее центре. Потому что вот есть наша страна, а внутри нее есть еще другие «страны», такие как Москва, Санкт-Петербург, Жуковка, Барвиха, Рублевка, в этих «странах» живут люди, многие из которых абсолютно не знают, не понимают и очень боятся этой остальной большой России. А как можно полюбить то, что не знаешь? Кстати, думаю, что во многом «Бесогон» смотрят потому, что люди этой другой, большой России чувствуют: я с ними, я их знаю и поэтому их люблю. Я могу презирать кого-то, ненавидеть, могу возмущаться, но, как говорил Пушкин, я глубоко презираю свое Отечество, но не люблю, когда это делают другие. Как бы там ни было, я часть этого Русского мира.
— Здесь, мне кажется, сильный диссонанс с образом «барина», который создают ваши оппоненты. То, как вы разговариваете со зрителем. Это скорее доверительная беседа, чем какое-то поучение...
— Люди, которые считают слово «барин» оскорбительным, — это пережеванная отрыжка большевизма, большевистского школьного представления о том, что барин — это обязательно людоед. Дикой, который бьет крестьян. Обломов был барином и в то же время оказался величайшим нонконформистом своего времени в отличие от своего друга Андрея Штольца. Да, Штольц — современный прогрессивный человек, все новое ему интересно и дорого, но Обломов, уважая позицию Штольца, ни при каких условиях не готов поступиться ради этого тем, что составляло суть и сущность жизни его и его предков. И дело не в барственной лени, а в удивительной цельности. Именно такая цельность сохранила русскую душу и породила величайшую русскую литературу и философию в эмиграции, которые подарили нам бесстыдно изгнанные со своей Родины уникальные таланты, цвет русской интеллигенции. Настоящий «барин» — тот, кто отвечает за тех людей, которые вокруг него. И это не гимн крепостному праву, а попытка справедливо оценить те взаимоотношения между людьми в России, которые вне зависимости от того, кто был барином, а кто был крестьянином, создавали уникальную общность Русского мира. И знаменитое «Барин приехал!» — это не клич об опасности, чтобы прятаться по углам, это искренняя радость от того, что приехал человек, которого ты любишь, потому что знаешь, что и он тебя любит так же.
Я могу себе представить, как эти мои слова будут искажены и осмеяны, сколько сарказма и обвинений высыплется на мою голову, и, наверное, это было бы справедливо, если после истребления, расстрела бар и священников, сожжения усадеб в стране воцарился мир, свобода, равенство и братство. Но в Россию пришла жесточайшая кровавая Гражданская война, равной по жестокости по отношению друг к другу соотечественников которой еще не было.
А если сравнивать тех бар и сегодняшних — многие из которых стали барами, оказавшись в губернаторском кресле или кресле мэра города или депутата Думы, которых барами сделала их принадлежность к правящим партиям и которые самоутверждаются за счет людей, которыми руководят, хотя постоянно вещают о «благе народа», то они действительно заслуживают гнева этого народа. И мы, если вы помните, не раз показывали у себя в «Бесогоне» этих «сильных мира сего» — хамов и взяточников — не достойных тех людей, которыми они руководят.
— Вы и критикуете власть, и поддерживаете ее. Для многих сегодня в России такая позиция выглядит сложной для понимания.
— Послушайте, если бы я исполнял чью-то волю, если бы мои программы были заказными, а помыслы корыстными, то обвинения в мою сторону в желании угодить власти и быть «рупором Кремля» могли бы быть справедливыми. Но я не испытываю никакого раздвоения. Я прекрасно понимаю, что в верхних эшелонах власти существует мощное лобби, воспитанное ельцинскими временами, для которых личные интересы важнее интересов народа, которые задницу от кресла своего не поднимут, чтобы исполнять то, что обязаны, если нет личной выгоды или страха потерять место, и которые при удобном случае предадут все то, чему служат, включая президента, и тем не менее я не смешиваю мою любовь к Отечеству с моей нелюбовью к чиновничьему чванству, лжи, коррупции, гигантскому воровству и наплевательскому отношению к тому месту, где ты живешь. Если я и служу, то моему Отечеству, а не власти.
— Возвращаясь к Столыпину. Были ли еще какие-то личности, идеи, встречи, которые вас сформировали, сцементировали тот идеологический фундамент, на котором вы сейчас стоите?
— Конечно же, вся русская литература — Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов и многие-многие другие, которые если не ответили, то по крайней мере поставили все вопросы человеческого бытия. А еще это Иван Ильин, и священник Сергей Булгаков, и Дмитрий Брянчанинов, и Иван Солоневич, и Василий Розанов, и замечательный современный теософ Виктор Тростников. Или, скажем, прекрасный писатель Юрий Лощиц, с которым мы вместе работали по книжке «Дмитрий Донской», а потом писали сценарий о жизни и смерти Александра Грибоедова вместе с Александром Адабашьяном и Ираклием Квирикадзе.
— Ваше мировоззрение формировалось как постепенное накопление опыта, знаний или были поворотные моменты, которые в вас что-то резко меняли?
— Если возьмете мои дневники начала семидесятых, когда я служил на флоте, то там, в общем-то, уже все сказано. Конечно же, огромное значение имело для моего формирования общение в кругу семьи. Да, я не понимал учительницу, которая очень разозлилась, когда я ей честно признался, что опоздал, потому что у нас всю ночь играл Рихтер, порвал две струны, барабанил так на рояле, что я не мог уснуть... Для нее билет в Консерваторию на Рихтера был недоступен. Ей, для того, чтобы достать билет на Рихтера в Консерваторию, нужно было отстоять километровую очередь, и это еще не была гарантия, что ей достанется билет. И потому у нее мои слова вызывали совершенно естественное отторжение. А я не понимал — почему, я же честно сказал, не наврал... Это с одной стороны. С другой стороны — воцерковление с детства, о котором я уже говорил, когда к маме приходил священник, отец в это время уходил из дома — внешне он не поддерживал, но и не противился воле мамы. Он понимал, что это ее жизнь, и не пытался ее изменить. Когда его пригласили в ЦК по поводу того, что к жене депутата Верховного Совета, секретарю Союза писателей СССР, автору гимна ходит батюшка, он, как всегда обаятельно заикаясь, сказал: по-о-ослушайте, она на десять лет меня ста-а-арше, когда умер Ленин, ей был уже 21 год, вы хотите, чтобы я ее пе-еределал, или вы пре-е-едпочитаете, чтобы я ра-а-азвелся? Судя по всему, его поняли, и больше этот вопрос не поднимался. Вот оттуда, именно из детства, ко мне пришло ощущение того, что я не один, что есть всемилостивый Спаситель, и, наверное, поэтому одиночество я испытывал не тогда, когда никого не было вокруг, а, наоборот, когда вокруг много людей, о которых замечательный Василий Васильевич Розанов сказал: «Человек без веры мне вообще не интересен». Конечно, религиозные темы, как правило, в доме не поднимались в разговорах, в силу понятных причин эта сторона жизни семьи не афишировалась, и когда я уходил служить на флот, мама зашила мне крестик в куртку, в которой я уезжал, который я потом перезашил в бушлат... Эта принадлежность к православной вере меня не покидала никогда. Уже потом, в новые времена, когда мои дети, ничего не опасаясь, исповедовались и причащались, я вспоминал, как тайком крестился перед какой-нибудь контрольной. А если по-серьезному вдуматься в слова Розанова, то это чистейшая правда — как бы ни был умен и начитан человек, если в основе своей жизни он убежден, что все, что он делает, это делает он сам, что только он хозяин своей судьбы, а в любых явлениях жизни ищет рациональный смысл, не веря в Божий Промысел, другими словами — во все то, во что верили русские люди в течение тысячелетий, очень скоро нам будет с ним не о чем разговаривать. И дело не в том, что я не допускаю существования атеизма как веры, и это не значит, что он плохой, это значит, что в какой-то момент так или иначе наш разговор зайдет в тупик, для каждого из нас он потеряет смысл.
— Никита Сергеевич, помимо «Бесогона», у вас есть другие проекты — Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова и Центр театра и кино, где вы «переподковываете» режиссеров и актеров. Это тоже инструменты изменения реальности, только уже со стороны творческой? Как это появилось, почему?
— Появилось, когда я увидел, как рушится профессия режиссера, как она превращается в ничто. Пришли новые времена, и у людей с деньгами появилась возможность снимать кино. А что для этого надо? Да ничего. Оператор учился, актер учился, сценарист учился. Надо сказать «мотор», «стоп» и «снято». И возникает ощущение, что только в этих трех словах и заключается режиссура. В итоге режиссерская профессия деградировала абсолютно, и это потянуло за собой снижение уровня актерского мастерства, техники, ремесла.
— Режиссер как дирижер?
— Конечно. Режиссер должен иметь возможность, умение помочь актеру, это его профессия, его талант, его необходимость... Вообще, режиссура — все. Война тоже режиссура, политика тоже режиссура, и семья тоже. Режиссура — это атмосфера, создание атмосферы: на площадке, на сцене, в стране, в мире... Вот здесь, у меня в студии, тоже своя атмосфера, она определяется людьми, которые сюда приходят или здесь работают.
— Которых вы подбираете.
— Конечно. И эта атмосфера выдавливает людей, которые не могут существовать в ней... Например, тех, кто не обладает самоиронией, не понимает юмора и, вместо того чтобы быстро выполнить задание, долго объясняет, почему он его не выполнил. Так вот, возвращаясь к режиссуре. Я решил попытаться помочь ей исходя из того, что я читал и чем пользовался — Михаилом Чеховым, абсолютно гениальным последователем Станиславского. Гений Станиславского в том, что он создал школу для людей со средними способностями. Создал школу, не скажу для посредственностей, но для людей, которые не «поцелованы Богом». Он создал систему, при которой человек со средними способностями, пользуясь только этой системой, может существовать в этой профессии, и достаточно успешно. А Михаил Чехов пошел дальше, это уже другой этаж. Поэтому, основываясь на Станиславском и идя дальше, мы совершенствуем то, что ребята получили за время обучения в училище. Не хочу никого обидеть, но пришедшие к нам актеры порой даже не слышали о том, чем им предстояло заниматься. Это и психологический жест, энергетика, концентрация, значение и смысл паузы, которая являет собою не остановку текста, а умножение энергии... Или, допустим, чисто технические вещи, если хотите — ремесленные — смех и слезы — по большому счету находятся в диафрагме, правильное дыхание, вот тебе смех и слезы. Другое дело, как это использовать. Когда режиссер говорит: вспомни дедушку умершего и заплачь или расскажу тебе анекдот, хохочи — он профнепригоден, он безграмотен. И вот когда режиссер не сможет помочь нашему актеру, он будет пользоваться тем, что мы ему дали: это техника, правильное выстраивание внутренней структуры, уважение к жесту, к телу, к взгляду, и тогда он выполнит любую поставленную задачу без посторонней помощи. Ему не нужен режиссер, он должен понимать, что делать, он сам умеет это делать... Когда я выхожу перед спектаклем в нашем Центре театра и кино и спрашиваю, есть ли люди, которые уже были на наших спектаклях, и две трети зала поднимают руки, мне лично ничего другого не надо, допустим, читать рецензии или слушать чье-то мнение. Дело не в том, что чужое мнение меня не интересует, а дело в том, что люди, пришедшие уже не раз на один и тот же спектакль, но именно в твой театр, к твоим актерам — это знак того, что они хотят еще раз прикоснуться к тому, что происходит на сцене. Одна женщина написала мне письмо и, ругая меня, сказала, что настоящее искусство — это то, что хочется увидеть, услышать или прочесть еще раз. Если бы Моцарта не хотелось слушать еще раз, кто бы знал, что он существовал?
— Какой у вас в Центре репертуар?
— Бунин и Чехов — это основа нашего актерского воспитания. Проза этих великих писателей, переносясь на сцену, требует совершенно другого подхода, нежели когда имеешь дело с драматическим произведением, где все уже расписано и приспособлено к сцене. А вот передать атмосферу прозы, которая Чеховым или Буниным выражена в двух фразах, — как это передать, из чего выстраивать? Вот это пилотаж! И даже когда мы идем в нарушение жанра, даже когда буффонада какая-то, я абсолютно уверен, что это все равно в русле или Чехова, или Бунина. Чехов писал: играйте «Гамлета» как хотите, но делайте так, чтобы не обижался Шекспир. По-настоящему ощутить и попытаться передать атмосферу литературы — это очень трудно, но очень важно. Потому Бунин и Чехов, которые как никто понимали, что все происходит между строк. Для меня Чехов — это полевая тропинка в траве, ее видно, только когда ты на нее встал, а когда смотришь со стороны, ты не видишь этой тропинки — только трава.
— Можно ли сказать, что вы сохраняете школу, традицию, которую ведущие вузы растеряли?
— Я не могу так сказать, могу сказать только: вот пришли к нам на год получившие профильное образование люди одни, а выходят совсем другими.
— Много ли желающих учиться в Академии? Каковы условия?
— Вчера закончили третий тур вступительных экзаменов. Из 460 человек взяли 6 человек на режиссерский факультет, 5 на продюсерский и 13 на актерский курс. Принимаем мы до 35 лет. Обучение стоит 450 тысяч в год, деньги и большие, и небольшие по тому объему знаний, который они у нас получают. Изначально платили сами студенты, и сразу началась проблема — идут в основном дети родителей, которые могут за это заплатить. А это не гарантия, что это те люди, с которыми интересно работать. Тут я понял: если ничего не поменять, то бессмысленно все это. Навстречу нам пошел Геннадий Николаевич Тимченко, обучение ребят оплачивает Фонд Елены и Геннадия Тимченко, а мой Фонд «12» платит им стипендию. У нас огромная программа, за год около 80 мастер-классов и встречи с самыми разными людьми: это и прекрасный балетмейстер Борис Эйфман, и митрополит Тихон, и художник Юрий Купер, и режиссер Анатолий Васильев, и историк Джон Шемякин, художник-сценарист Александр Адабашьян. Другими словами, это интереснейшие люди и нашей страны, и зарубежья. Ребята получают гигантский материал, чтобы расширить свой кругозор. Из тех, кто пришел, не все выйдут у нас на сцену, и они должны об этом знать, потому что выйдут лучшие. Но даже если ты не вышел на сцену, ты за этот год получил, кроме того, что занимался профессией, еще и невероятную возможность смотреть любые спектакли, любые выставки. Была, например, выставка Ватикана, очередь на полтора километра, а наши ребята смогли на нее попасть. На спектакли Эйфмана — ни одного билета, а ребята хоть и на ступеньках сидят, но смотрят. Причем условия обучения довольно жесткие, они обязаны посещать все занятия — интересно, неинтересно. Три раза пропустил без уважительной причины — все. Это стимулирует. Но зато, когда ты начинаешь с ними работать всерьез и выводишь на сцену, любой из них, абсолютно любой из тех, кто окончил Академию, может выполнить любую задачу художественную на любом уровне и в любой стране. Это универсальные бойцы, «спецназ».
— Что, на ваш взгляд, происходит в целом с отечественным кино? Фонд кино вкладывает сейчас довольно большие государственные средства в наш кинематограф.
— Беда происходит. Деньги Фонда кино не могут расширить масштаб мышления людей, которые снимают кино. Замечательный режиссер и великий педагог Сергей Аполлинариевич Герасимов сказал: «Мать кинематографа — литература». Это не значит, что надо обязательно экранизировать литературные произведения, но сама глубина подхода в русской литературе к проблемам жизни человеческого духа может и должна стать основой настоящего художественного кинематографического произведения. Конечно же, ни Тургенев, ни Пушкин не знали проблем ядерной державы и скоростного интернета, но сущность человеческую они знали замечательно. А в истории остается только то, что по-настоящему затрагивает сущность, характер взаимоотношений и взаимоотношения характеров.
— Я вот в вашей книге «Бесогон» прочитал про Достоевского. Как он дает точный «прогноз» по распаду СССР.
— Именно! Важен взгляд личности. Когда ты заходишь в кинозал, прячась от дождя, и видишь пять случайных кадров Феллини, ты понимаешь, что это Феллини, смотришь Бергмана, ты понимаешь, что это Бергман. Потому что за каждым кадром стоит сущностность человеческая, индивидуальность. За время пандемии я имел возможность посмотреть приблизительно 150 картин. Это хроника убывающего плодородия, когда ты смотришь подряд несколько картин современных, неважно какой страны, а потом как к кислородной подушке обращаешься к Дино Ризи или Антониони. Или спасаешься с помощью неизвестного режиссера, 37-летней итальянки Аличе Рорвахер, снявшей всего два фильма — «Счастливый Лазарь» и «Чудеса». Или гениального режиссера-иранца Маджида Маджиди, который из ничего делает величайшие произведения. А когда ему надо было сделать блокбастер, он сделал «Мухаммад — посланник Бога». Великая картина. Когда я представлял этот фильм в Москве, я сказал, что был бы счастлив, если бы такого таланта и масштаба фильм был сделан про детство Христа. Но кто это смотрит, кому это надо? Хроника убывающего плодородия. Это касается не только кино или театра, искусства, литературы, это касается тех, кто это смотрит и читает. Потому что сегодня молодые люди — это дети тех, кто уже перестал читать и смотреть.
— В нашем предыдущем номере с темой «Почему измельчала русская литература» один из наших собеседников так и сказал — «скоро они начнут мычать».
— Когда Нобелевскую премию получает Алексиевич... по литературе! А ведь когда-то ее получали Борис Пастернак, Иван Бунин, Эрнест Хемингуэй, Жан-Поль Сартр... Это хроника убывающего плодородия, когда фуфло выдает себя за настоящее, и надежда только на то, что «время — сестра правды», в результате фуфло все равно будет названо фуфлом, а настоящее останется настоящим.
— Давайте в завершение о чем-нибудь оптимистичном. Может, про «творческие планы»?
— Продолжим выпускать наш «Бесогон» — это важная часть моей жизни. Кстати, что очень радует: число подписчиков и число просмотров нашей программы постоянно и стабильно растет. Кроме того, мы с братьями Пресняковыми написали пьесу по нашему фильму «12». Хочу поставить ее на сцене и сыграть сам. И я пригласил принять участие в этой работе Николая Бурляева и Александра Адабашьяна. Придумали очень красивое ноу-хау, на мой взгляд. Пока собираем кастинг, в основном из наших ребят. И я должен сказать, что, наверное, у меня на сегодня самая молодая и одаренная труппа. Они удивительно профессиональные, при том горят, азартные такие... И очень хорошо совпало, что у нас в Центре театра и кино недавно появился меценат Андрей Моисеевич Симановский, с его помощью будем воплощать задуманное. Потому что государство дает деньги на хозобеспечение, зарплаты администрации — на все, кроме постановок. И вот в марте, как раз до разгара пандемии, мы договорились с Андреем Симановским, который посмотрел наши спектакли, проникся духом и атмосферой Центра, о партнерстве. Созданный нами фонд будет субсидировать театральные постановки, и я очень рад, что не московский предприниматель и меценат стал учредителем этого фонда, а именно человек из русской провинции, с Урала, продолжающий традиции таких меценатов, как Николай Демидов или русские предприниматели Строгановы. Вообще, возрождение истинного русского меценатства для меня вещь символическая. А для страны — важнейшая...
Материал опубликован в № 10 газеты «Культура» от 29 октября 2020 года
Фото: Александр Авилов, Кирилл Зыков / АГН Москва.


