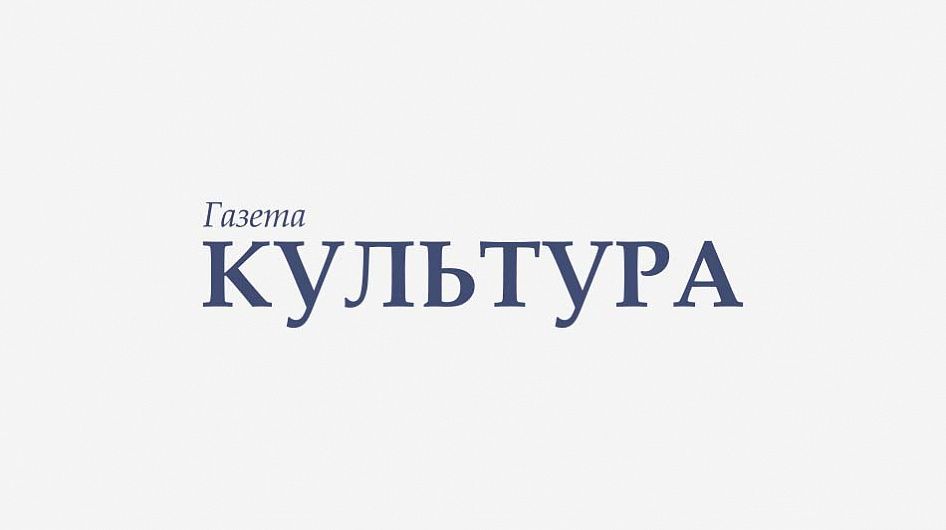
Александр Аузан: «Мы будем другими, оставаясь собой»
Экономика — это не только цифры. За любыми данными стоят люди с их интересами, надеждами и ошибками, успехами и поражениями, личным и национальным опытом. Статистика хороша для отчетности, но для того, чтобы понять, куда движется страна, мало просто обобщить разнообразные данные — нужно их интерпретировать, объяснить с точки зрения непротиворечивой теории. Как это сделать? Есть ли у России в новом, глобальном, сетевом мире конкурентные преимущества? В чем мы сильны и почему? Об этом «Культура» поговорила с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном.
культура: У нас существуют две большие экономические школы: либеральная и патерналистская. Вы — приверженец первой, но часто говорите о том, что либеральные реформы в России не сработают. Почему?
Аузан: На вопрос «Вы каких будете?» отвечу, как один известный технократ, который работает в правительстве: «У меня нет партийной принадлежности на время службы»: я — декан экономического факультета МГУ и сотрудничаю со всеми существующими школами. Объясню, почему это не противоречит моей научной совести. По профилю я институциональный экономист, принадлежу направлению, в основе которого лежит великая теорема Рональда Коуза о силах социального трения, из которой следует, что ни один проект не может быть реализован так, как он задуман, не дает тех результатов, которые обещают создатели. Зато существует выбор между разными возможностями: в мире нет совершенства, но есть разнообразие. Впрочем, вариантов не два, а три или четыре, не работает, к счастью, схема, озвученная великой Фаиной Раневской: «Девочка, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?» Поэтому мне легко стоять немного сбоку и анализировать: «Ребята, вы, конечно, правильные вещи говорите. Вот это у вас получается. Но предложенный метод к этой ситуации неприложим».
культура: Что такого есть в России неожиданного и необычного? Не работает ведь либеральная теория здесь.
Аузан: А почему «здесь»? С моей точки зрения, везде есть нечто неожиданное, что-то, что не позволяет реализоваться тем или иным идеям. Как известно, виноград, привезенный из Шампани в Россию, дает совершенно другой вкус. И наоборот.
Сэмюэл Хантингтон сказал: «Культура имеет значение». Это на самом деле парафраз высказывания Дугласа Норта: «Институты имеют значение» — institutions matter. А Хантингтон продолжил — culture matters. Что означает это высказывание? Оказалось, что системы правил, которые мы можем прописывать в законах, иногда почему-то не срабатывают или дают противоположный результат. Под ними есть еще то, что называется «невидимыми институтами» — культура, ценности, поведенческие установки. Это надо иметь в виду при анализе. А о том, как это учитывать, идут споры. Так, например, уважаемый Андрей Сергеевич Кончаловский, с которым мы вместе читали курс на экономическом факультете МГУ два года назад, полагает, что культура — это судьба, определяющий момент, доминанта. Я так не думаю. Полагаю, что культура в смысле ценностей, поведенческих установок — это фактор нашей жизни. Я бы сказал так: «Культура — не приговор». И не гарантия того, что мы всегда будем так креативны, как были два или три последних века. Но и не приговор в том смысле, что если не получалось, то и не получится. Перед нами — долгоиграющий фактор, изменяющийся очень медленно. Я скажу, за какое время, — сорок лет. Нынешние расчеты показывают, что при целенаправленном воздействии ценности и поведенческие установки меняются именно за такой срок.
культура: Целенаправленное изменение поведенческих установок — прогрессорство в духе Стругацких?
Аузан: Понимаю ваш вопрос. Меня это тоже смущает. Хотя надо сказать, что прогрессорство в «Трудно быть богом» описано достаточно точно и взвешенно. Это одна из моих самых любимых книг. Смущение по поводу прогрессорства снимается обращением к истории и некоторым сегодняшним реалиям. Посмотрим на некоторые факты истории. Петр I не только брил бороды и учил мужчин ходить правильным строем, но занимался массой странных вещей, вроде навязывания курения табака, пития вина etc, фактически модернизировал страну, меняя ценности и поведенческие установки. И в элитах ему это удалось, надо заметить. Правда, потом возник диссонанс, который тяжело переживался в ходе крестьянских восстаний и пугачевщины: Россия плохо понимала европеизированную верхушку.
Возьмем три сферы, где реально формируются ценности и поведенческие установки нации. Это, заметьте, не телевидение, интернет и литература, но школа, тюрьма и армия. В Сеть можно не выходить. Телевизор легко выключить, и значительная часть молодежи его просто не смотрит. Литературу, к моему сожалению, читают гораздо меньше людей, чем нам хотелось бы. А вот в школу ходить заставляют. В армию забирают силой. И в тюрьму попадает значительная часть населения. Но дело не в том, какие там проповеди читают, а в том, как устроена жизнь. Мы понимаем, сколько в середине XX века страна переняла из тюремной культуры — от песен определенной стилистики до установок «не верь, не бойся, не проси» и т.д. И за то, что происходит в школе, тюрьме и армии, заметим, ответственность несет государство. Государство российское каждый день «прогрессорством» занимается, не надо лицемерить. И таким путем производит ценности и поведенческие установки.
культура: Школу можно изменить? Ведь нравы в российской армии (не скажу о тюрьме, не знаю), стали гораздо мягче.
Аузан: Та школа, с которой уже сто лет борются все учителя-новаторы, классно-урочная система, была придумана, как известно, Яном Амосом Коменским, замечательным чешским епископом, который создал не только устойчивую образовательную модель, но и логику промышленности. Разделение уроков стало разделением труда, такая предметность создала частичного человека. То есть промышленная революция в Англии XVIII века была заложена священником. Какова структура школы — такова у вас (не сразу, а может быть, через сто лет) структура экономики, потому что люди, которые оттуда вышли, школьные отношения воспроизводят во взрослой жизни. Вот о чем я говорю, когда рассуждаю о том, что школа, тюрьма и армия формируют поведенческие установки. И если мы хотим что-то менять, то мы все время должны смотреть, что вываривается в этих котлах. А там все время что-то происходит. Меняя ситуацию к лучшему с точки зрения человеческих отношений, мы иногда можем получить совершенно неожиданные последствия, например, в экономическом развитии. Иностранные исследователи посчитали, что было бы с экономикой в стране, если бы изменился один фактор — уровень доверия людей друг к другу. Речь идет об уровне «социального капитала», то есть доверия незнакомому человеку — не приятелю, с которым я много чего пережил, не сослуживцу, не родственнику, а чужому. Встретился я с человеком — изначально доверяю ему или не доверяю? В Швеции, скажем, высокий уровень доверия. При шведских значениях в Чехии экономика была бы на 20 процентов выше, а в России — на 58. То есть наши мучения по поводу темпов роста и нехватки пирога на всех можем решать и таким образом.
культура: Позвольте о недоверии. Но ведь в России — всплеск волонтерства...
Аузан: Это правильно, но смотрите: у нас в конце 80-х годов уровень взаимного доверия был очень высоким. И именно поэтому полмиллиона человек могли стоять на Манежной площади на протестных митингах. Люди доверяли незнакомцам, даже в этом довольно рискованном в Советском Союзе деле. В 90-е это чувство начало исчезать и в нулевые годы растворилось совсем: своим верю, потому что против чужих. А сдвиг произошел в районе 2010-го. Лесные пожары по всей стране вдруг вызвали понимание, что надо помогать разным людям. Это был поворотный пункт. Но я бы сказал, что не колебания уровня доверия формируют портрет нации. Я бы сказал, это определяет, скорее, внутреннюю силу. На что нация настроена? На гражданскую войну, которая, кстати, требует большого доверия своим против чужих? Классический пример — Южная и Северная Италия. Южная — это страна групп, стоящих друг против друга, там очень высокая плотность доверия, но в каждой «семье», говоря мафиозным языком. А на Севере (он экономически очень успешен) доверие «размазано», потому что оно отнесено к разным людям: «Я и с тобой готов работать, и с тобой. Я допускаю, что ты тоже имеешь право на жизнь».
А портрет нации — он в другом. Я могу сказать довольно определенно, кто мы такие. В конце 2016 года мы проводили исследование, которое поддерживали Российская венчурная компания и Центр стратегических разработок. Оно было посвящено тому, кто такие русские, понимая это не этнически...
культура: А цивилизационно?
Аузан: Социометрически! Давайте я начну с огорчительного. Мы не на первом месте в мире по так называемой дистанции власти. Что это такое? Мы к власти как относимся? Мы готовы с ней работать, воспринимаем ее как партнера или нам важно уважать начальника? Мы не на первом месте в мире, мы на третьем — после Саудовской Аравии и Ирака. Это плохой показатель. Дистанция власти, вообще говоря, сильно противоречит таким вещам, как венчур, фондовый рынок, инновационная экономика. Хуже, однако, еще один показатель — избегание неопределенности, страх будущего. Вот тут мы первые в мире. «Не меняйте этого человека — следующий будет хуже. Вы не видите, что ли? Никого другого-то нет! Не открывайте эту дверь, там страшно. Не трогайте систему — она рухнет!»
культура: Рухнет и нас погребет?
Аузан: Правильно. Думаю, что страх перемен — свойство злоприобретенное. Я подозреваю, что виноваты все-таки шоковые реформы, они, конечно, привели к желанию того, чтобы никаких перемен не было. Это ведь страшно.
Теперь о том, что в нашем социокультурном портрете лучше. Великий спор, который два столетия продолжается — о том, кто мы, каков русский человек, общинный или индивидуальный, — можно закончить. Хочу сообщить участникам спора, что с точки зрения той верификации, которую нам удалось сделать, правы и те и другие. Мы оказались ровно посередине между индивидуализмом и коллективизмом. Это предугадывал, пожалуй, только Редьярд Киплинг, который сказал: русские думают, что они самая восточная из западных наций, а между тем они — самая западная из восточных. И то, и другое верно. Мы можем использовать и коллективистские технологии Востока, и индивидуалистические социальные методы Запада. С моей точки зрения, это преимущество. У нас есть и легкие, и жабры. Давайте поймем, что с этим делать.
Мы можем учиться как у Японии, Китая и Южной Кореи, так и у Швеции, Германии, Англии. Но учиться социальным технологиям, а не импортировать институты.
У нас есть характеристики, которые очень хороши для развития: например, готовность, желание людей к тому, чтобы страна стала другой. Да, страшно, однако эта готовность есть. Я, кстати, хочу сказать, как ни странно, что это наше преимущество перед американцами, потому что их все устраивает. А мы хотим, но боимся, что при переменах нам сильно достанется. Поэтому в каком-то смысле в России жива готовность штурмовать небо.
Отдельно хочу заметить, что еще одно свойство, которое вообще чрезвычайно важно, касается так называемой феминности-маскулинности. Неудачные термины великого голландца Герта Хофстеде, но мы — феминная нация с этой точки зрения, то есть мы не ломим последовательно по плану, читая все инструкции и довинчивая все винты. Есть такие нации, с которыми нам предлагается конкурировать: «Давайте мы развернем промышленное соревнование с немцами, японцами и китайцами». Я в ответ говорю: «Свят, свят, свят!» Вы понимаете, что вы бросаете нас ровно в те сферы массового производства, где мы всю жизнь были заведомо слабее.
Россия сильна в ином. Смотрите, сколько идей отсюда вышло только за XX век. Перечень довольно длинный. Владимир Зворыкин стоял у истоков телевидения, а Жорес Алферов у истоков мобильной связи, однако, простите, не мы сняли колоссальный экономический эффект с этих изобретений в виде 25 годовых продуктов и не мы являемся главными телекоммуникационными компаниями мира. Это преимущество мы не могли реализовать, экономя на масштабе. Плохо справлялись с массовой организацией. У нас было хорошо с созданием уникальных и малосерийных образцов. Это касается и спутника, и космического корабля, и атомных станций. Россия на мировом рынке производит 26 процентов атомных реакторов. Мы абсолютные лидеры. В автомобильной промышленности мы и до 0,2 процента мирового оборота не дотягиваем. Можно ли заниматься автопромом? Да. Просто у нас это будет дороже и хуже. Хотите? Мы можем туда идти. Вдруг нам очень нужно.
культура: А куда надо идти?
Аузан: Кажется, что сейчас России выпадает шанс. Сейчас из каждого холодильника говорят о цифровой экономике, это новое явление имеет несколько особенностей. Каждая из них довольно интересна. Но одна касается нас решающим образом — массовая кастомизация. Что это такое? Есть технологии вроде 3D-принтинга, которые позволяют производить индивидуальный продукт с такими же издержками, как массовый. Слушайте, но ведь мы ровно в это и тыкались всю жизнь, потому что уникальную-то вещь можем сделать — мы же Левши! А вот чтобы блохи танцевали, да еще чтобы фабрики их производили, это получалось хуже, а теперь — не надо.
культура: Теперь каждый — фабрика?
Аузан: Совершенно верно, но не отдельный человек, а небольшая группа. Причем, заметим, фабрика, которая выходит сразу на мировой рынок через глобализированные платформы. Это абсолютно другая экономика, которая, на мой взгляд, может оказаться для лучших наших свойств чрезвычайно привлекательной.
культура: Но в этой экономике мы останемся русскими?
Аузан: Да, конечно же, ничего уже не будет по-старому, но вместе с тем мы изменимся. Мы менялись как нация? Конечно. Немцы или англичане тоже. Дело в том, что позже возникла тонкая историческая мифология о «консерватизме», верить ей нельзя. Англичане убедили весь мир в том, что они всегда за постепенность, за уважение к традициям. Вы меня извините, а кто первый оттяпал голову своему королю? Причем не в ходе дворцовых переворотов, а по решению суда. А до этого утопил страну в кровавой гражданской войне? А до этого была война Алой и Белой розы? Менялись англичане. И немцы менялись — из мечтателей, неспособных создать свое государство (поэтому и приживавшихся в других странах и гувернерами, и министрами), в мощную силу, объединенную идеей порядка (Ordnung). Мы тоже будем другими, оставаясь собой. У человека в паспорте есть фотографии — в одном возрасте, в другом возрасте, в третьем — могут быть разительные отличия, но это один человек. Идентичность сохраняется. Поэтому я думаю, что сейчас период, способствующий некоторым шагам по улучшению жизни, хотя в целом я не назвал бы этот исторический отрезок достойным того, о чем мы мечтали.
культура: Раз уж мы говорили о Стругацких, не могу не вспомнить повесть «Гадкие лебеди». Не потеряем ли мы детей, которых от нас уведут «мокрецы», переставшие быть людьми, а воплощенные в гаджетах, Сети?
Аузан: Для меня это проблема, скорее, практическая, потому что я декан факультета, на который приходят учиться лучшие мальчики и девочки из самых разных городов и весей. Поэтому картину бед, пусть и в ослабленном виде, я здесь вижу. Проблема реальна. У нас есть опасения, что люди в новых поколениях обретают новые свойства. Например, они способны работать на параллельных экранах. Хотя и здесь есть нюансы. Как сказал один из студентов на мое замечание: «Но вы же действительно можете и гуглить что-то, и в сетях переписываться, и еще якобы лекцию слушать». «Да. И все это мы делаем, как утка, которая плавает, но медленно, летает, но низко, и ходит, но плохо». Не знаю, насколько эта самокритичная оценка верна, но я опасаюсь утери системности и глубины.
Поэтому мы затеяли здесь, на экономическом факультете МГУ, программу, которую называем «ремонтом гуманитарного провала», — он должен дополнить гуманитарным пониманием мощную математическую культуру Московского университета, существующую и на нашем факультете.
Тот же принцип лежит в основе конкурса «Лидеры России» для будущих государственных, корпоративных, гражданских менеджеров. Нужно вернуть системность, которая стоит на длине взгляда: ты знаешь не только физику, которая тебя учит не совать два пальца в розетку, но и весь гуманитарный цикл, нужный для того, чтобы людей не било током при поворотах мировой истории.
Конечно, новое поколение в чем-то не оправдает наших ожиданий, но может сделать и то, что вызовет почтительное изумление. Но наша задача состоит и в том, чтобы они мир не подожгли. И при этом соблюдали уважение к высоким целям и дальним событиям, понимали, что все то, что происходило три века назад в отечественной — и не только — истории, имеет прямое отношение к тому, каковы они сами, и влияет на то, что с нами может произойти, а чего не может. Я бы сказал, что надо попробовать создать систему такого поддержания широты, глубины и дальности взгляда и понимания, которую мы утратили в период жесткой прагматики, когда нужно было отвечать на вопрос: «А что это человеку даст, когда он будет наниматься на работу через три года?» Сегодня этого не требуется, сегодня нужно мыслить интересно, широко, масштабно.
Интересно жить — интересно. И задача поколения молодых — не стать средним менеджером, чтобы дорасти потом до старшего и затем до главного менеджера, а сделать что-то такое, чего до тебя не делал никто.
Иллюстрация на анонсе: Виталий Подвицкий


