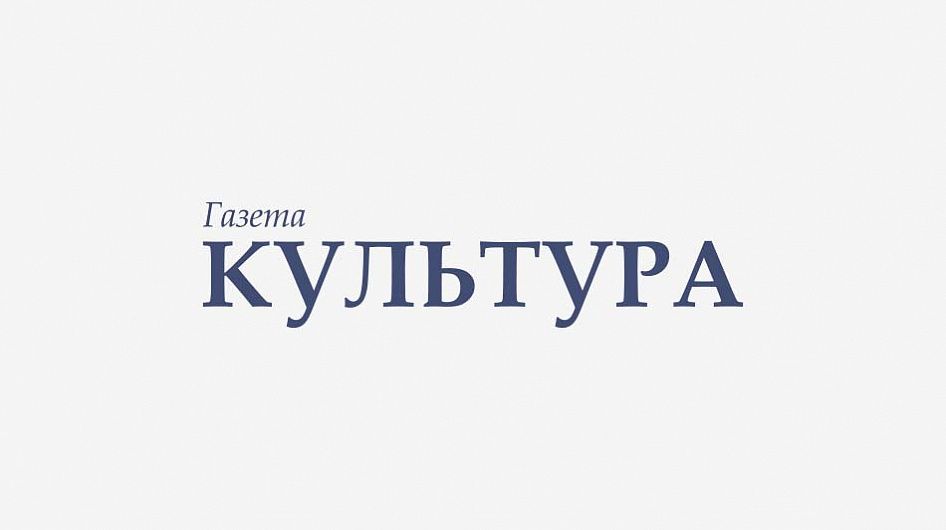
Актриса Чулпан Хаматова: «Благотворительность — это больше, чем норма. Это радость и счастье»
В интервью «Культуре» исполнительница главной роли в ставшем событием последнего «Кинотавра» фильме «Доктор Лиза» Чулпан Хаматова рассказывает о роли благотворительности в ее жизни и о том, что для нее значило сыграть Елизавету Глинку.
Больные дети, бездомные, трагическая фигура самой Глинки, разбившейся на самолете в 2016-м: на таком материале снять жизнеутверждающее и светлое кино практически невозможно. Но это невозможное Оксане Карас удалось: после ее фильма нет искушения забиться в угол и зареветь. Наоборот: ты чувствуешь прилив энергии и начинаешь думать о том, что тоже можешь кому-то помочь.
Есть в этом огромная заслуга и Чулпан Хаматовой, сыгравшей не «ангела во плоти», а живого человека с его сомнениями, проблемами и эмоциями. Кстати, у актрисы и ее героини много общего: в 2006-м году вместе с Диной Корзун Хаматова основала благотворительный фонд «Подари жизнь», и с того времени благотворительность стала важной частью ее жизни.
Чулпан Хаматова — одна из самых заметных актрис современного российского кино и театра. Закончила ГИТИС (курс Алексея Бородина), с 1998-го года служит в Московском Академическом театре «Современник» (также являясь заместителем художественного руководителя театра). Известна по ролям в фильмах и сериалах «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Лунный папа» Бахтиера Худойназарова, «Дети Арбата» Андрея Эшпая, «Доктор Живаго» Александра Прошкина, и многим другим. Народная артистка России (2012), двукратный лауреат Государственной премии России (2004, 2014).
В 2006-м году вместе с Диной Корзун основала благотворительный фонд «Подари жизнь», цель которого — помощь больным детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
— Чулпан, в фильма «Доктор Лиза» персонаж Андрея Бурковского говорит вашей героине примерно такую фразу: «Ты красивая баба, зачем тебе какая-то благотворительность?!» Вам, как руководительнице фонда «Подари жизнь», как часто приходится слышать в свой адрес что-то похожее? И что вы отвечаете?
— Знаете, некоторым людям действительно очень сложно понять, зачем и почему я этим занимаюсь. К примеру, один человек мне даже сказал, что я настоящая мазохистка и люблю делать себе больно. Но я отвечаю, что мне просто хочется жить в гармонии с собой. И что мне хочется смотреть на себя в зеркале без отвращения. Да, конечно, иногда гораздо проще пройти мимо чего-то важного и сделать вид, что ты очень занят и что это тебя не касается. Но я понимаю, что если я пройду мимо, не попытавшись помочь, то мне придется жить с этим. И я всегда буду помнить, что я даже пальцем не пошевелила, чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему...
— Тем не менее, вы уже отдали своему фонду 15 лет жизни. Не было ли искушения сказать себе: «Я сделала достаточно, сделала, что могла, пора взять тайм-аут»?
— Я бы сказала, что это даже не искушение, а просто усталость. И «послевкусие» слишком частых разочарований, потому что очень часто выходит так, что ты что-то делала-делала, планировала-планировала, а потом жизнь вдруг поворачивается с ног на голову — и все, над чем ты работала, вдруг в один момент перечеркивается. И ты вынуждена начинать все сначала. Поэтому, да, усталость бывает. Я же живой человек...
— А как чувствует себя фонд после 15 лет работы? За это время стало сложнее заниматься благотворительностью? Или, напротив, список проблем фонда уменьшился?
— В каждом секторе нашего фонда, в каждой программе по-разному. Какие-то вещи стало гораздо легче делать. Начать с того, что теперь никому не нужно объяснять, что детский рак лечится. Пятнадцать лет назад, когда мы только начинали, даже я была уверена, что детский рак — это приговор. То есть если ребенок заболевает раком, то он точно умрет. И понадобилось много встреч с врачами, чтобы понять, что на самом деле все давным-давно по-другому, что есть феноменальные результаты. И многие люди, я уверена, тоже об этом знают.
А стало ли проще? С одной стороны, у нас появилось много новых инструментов: и для сбора денег, и для оповещения доноров крови. То есть если пофантазировать и представить наш фонд в виде некой условной кухни, то можно сказать, что у нас появилось новое оборудование: холодильник, миксер, плита... Но на количество усилий, которые необходимы, чтобы собирать нужные суммы, это никак не влияет: усилий все равно нужно много. Потому что закрыть все потребности, которые мы мечтаем закрыть, у нас не получается. Нам бы закрыть те потребности, которые мы обязаны закрывать. Поэтому нам постоянно приходится бежать со скоростью света впереди паровоза. Вечно что-то придумывать, что-то делать. И работать, работать, работать. Так что в этом смысле ничего абсолютно не изменилось. Просто раньше мы собирали одну сумму, а сейчас мы собираем другую. И мы не можем собирать столько, сколько собирали лет десять назад. Иначе все накроется медным тазом.
— А что самое трудное сегодня? Достучаться до людей, до чиновников?
— Достучаться до каких-то властных структур не так-то легко. Хотя, конечно, мы бы хотели иметь влияние такого рода и такой вес, но это утопия. Взять хотя бы импортозамещение. Я понимаю, что у этого явления важен прежде всего политический аспект (хотя и экономический тоже). С его помощью мы отвечаем на западные санкции и поднимаем собственного производителя. Но с точки зрения медицины это абсолютный перебор. Мы могли бы говорить про какое-то импортозамещение, если бы наша медицинская индустрия развивалась на несколько десятков лет дольше и если бы финансовых вливаний в нее было больше в разы. Потому что пока еще мы совершенно неконкурентоспособны. И это сильно бьет по нашему фонду: мы хотим лечить детей самыми передовыми лекарствами, а получается так, что государство отказывается их покупать, и клиники вынуждены приобретать отечественные аналоги. Врачи же хотят лечить детей теми лекарствами, которые реально смогут помочь. Но в регионах выбора у них нет, поэтому многие доктора просто кивают и соглашаются на отечественные препараты.
— А как вам кажется, благотворительность сегодня — это тренд? Люди стали охотнее откликаться на просьбы о помощи?
— Охотнее — да. По поводу тренда — не знаю. Хотя сделать благотворительность трендом — это моя мечта. Правда, сначала мы просто пытались объяснить людям, что помогать другим — это норма, что помощь должна стать чем-то вроде привычки — как почистить зубы. А сейчас я бы хотела доказать всем, что благотворительность — это больше, чем норма: это радость и счастье.
— Получается?
— Да! Потому что каждый человек, сделав какое-то доброе дело, начинает уважать себя чуточку больше, и из-за этого в его мозг сразу же выделяются эндорфины. И человек радуется. То есть, совершив хороший поступок, мы как бы примиряемся сами с собой, начинаем себя любить и становимся чуть-чуть счастливее.
— Современный благотворитель — кто он? Миллиардер или просто частный предприниматель, открывший свой первый магазин? Или это интеллигентная бабушка-старушка, несущая вам 50 рублей после получения пенсии?
— Это очень разные люди. И сказать, кого больше, я не могу. Если говорить про большой и серьезный бизнес, то его представителей мы чаще всего просим купить какое-то дорогое оборудование в одну из клиник (причем сумма может доходить до нескольких миллионов). А пожертвования от обычных людей составляют примерно 30 процентов всех сборов. И это очень много. Потому что большинство из них перечисляют по 50–100 рублей ежемесячно или одноразово. Но за счет количества жертвователей собираются огромные суммы.
И важно вот еще что. Есть люди, которые хорошо знают наш фонд и доверяют ему. К ним можно просто подойти и сказать: «Помогите!» А есть те, кто до сих пор удивляется: «Ой, а что это?!» И с каждым приходится выстраивать отношения по-разному, по-разному налаживать контакт. При этом интеллигентной бабушке ничего объяснять не надо. А вот молодежь мы вынуждены «вербовать»: искать с ними общий язык, как-то заинтересовывать. Я, к примеру, не умею этого делать. Я вообще чувствую, что осталась где-то в мезозое, а дети ушли далеко вперед. Поэтому моя задача — найти тех, кто разговаривает с молодыми людьми на одном языке.
— Чулпан, я заметила, что сегодня на телевидении появилось много социальных роликов, с помощью которых благотворительные фонды пытаются собирать средства на помощь больным детям. С чем это связано? Стало больше маленьких пациентов или увеличилось количество тех, кто готов помогать?
— Телевидение — один из важнейших инструментов сбора средств. Поэтому если социальных роликов стало больше, то это прекрасно. Правда, по той информации, которая у меня есть (хотя я могу и ошибаться), эти ролики размещаются практически по рекламным расценкам. А значит, их количество связано не с тем, что изменились правила работы с социальной рекламой. А потому что появилось много фондов, готовых оплачивать рекламную ренту.
Но, если честно, давно было понятно, что рано или поздно мы к этому придем. Вот у нас два сестринских фонда: в Лондоне и в США. Поэтому нам есть с чем сравнивать. В России ты можешь уговорить своих друзей поработать на каком-то мероприятии без гонорара, ты можешь прийти в театр и попросить бесплатную площадку, можешь договориться о скидках и т.д. То есть затраты на проведение благотворительного вечера в данном случае минимальны. А в Лондоне так нельзя. Ты не можешь что-либо просить бесплатно. Это физически невозможно. Потому что благотворительность у них — третий сектор экономики, который вплетен в обычную жизнь. Поэтому и расценки там соответствующие. Хотите сделать мероприятие? Отлично, платите деньги.
Сейчас что-то похожее начинается и у нас: это видно по билбордам на улицах, по количеству рекламных роликов на телевидении. Их много, потому что появляются благотворительные фонды, которые готовы за них платить.
— Но почему государство не хочет или не может заботиться о таких детях? Ведь деньги-то в стране огромные, а ребенку на лечение мы собираем всем миром. Почему?
— Что касается нашего диагноза — рак, —то, конечно, на борьбу с ним государство тратит огромные деньги. Дети бесплатно лежат в больницах, бесплатно получают базовое лечение. Но есть побочка, которая может возникнуть у этих детей и которая в квоты не вписана. Поэтому ее лечение оплачивается только за счет благотворительного сектора. И, конечно, дети со СМА — спинально-мышечной атрофией. Здесь ситуация просто катастрофическая. Если раньше лекарств от этого кошмара не было, то сегодня достаточно одного укола (правда, сделанного вовремя), чтобы изменить течение болезни — и у ребенка появился шанс вырасти практически здоровым. То есть медицина здорово шагнула вперед. Но проблема в том, что препарат стоит примерно 20 миллионов. Поэтому самостоятельно найти такую сумму родителям не под силу. В Минздраве, правда, сначала пообещали помочь, но потом постепенно сдали назад. Видимо, это очень большие деньги. Хотя, конечно, в нашем государстве они точно есть. Другое дело, что приоритеты и ценности у сегодняшних чиновников немного другие сегодня.
— Коронавирус и пандемия как-то изменили работу фонда?
— У нас все лекарства и костный мозг привозятся из-за границы. Поэтому, как только авиасообщение прекратилось, начался настоящий кошмар. К тому же малый и средний бизнес свернул все благотворительные программы, потому что они сами едва выживали. А вот пожертвований от физических лиц меньше не стало — и это меня по-настоящему потрясло. Конечно, пока трудно сказать, изменится ли эта ситуация в дальнейшем, но те люди, которые делились с Фондом «Подари жизнь!» своими деньгами, остались с нами рядом и в пандемию. Хотя в какой-то момент я была уверена, что период карантина фонд не переживет. Но нет: оказавшись в тяжелой ситуации, люди не забыли про тех, кому еще хуже. И это прекрасно.
— Чулпан, давайте вернемся к фильму Оксаны Карас «Доктор Лиза», где вы играете главную роль. Вы с Елизаветой Глинкой, доктором Лизой, в реальности когда-то встречались?
— Мы с ней были знакомы, да. Часто общались на благотворительных мероприятиях, лично. И много разговаривали по телефону.
— А как вам кажется, экранная Елизавета Глинка получилась похожей на себя настоящую?
— Глеб — муж Лизы — говорит, что похожа. Но я недовольна собой, хотя, наверное, ничего ненормального в такой реакции нет.
— А она чем-то отличается от вас по характеру?
— О да, мы очень разные. К примеру, я всегда боюсь кого-то обидеть, а она совершенно этим не страдала. И мне очень нравится ее легкость и ее категоричность. Кстати, я заметила, что в какой-то момент я кое-что у нее «позаимствовала», и мне даже стало легче работать. Потому что когда играешь какую-то роль, когда вживаешься в образ, этот образ начинает проявляться и в повседневной жизни.
— То есть каждая роль актера меняет?
— Конечно! И в этот раз это было особенно заметно. Я даже поймала себя на мысли, что я делаю то, чего никогда не делала раньше. Например, сажусь в такси и вдруг говорю таксисту: «Привет! Ну, как ты? Как у тебя дела?» Это вообще на меня не похоже!
— Чулпан, а кто для вас доктор Лиза?
— (Думает очень долго.) Знаете, она для меня человек, который, видя несовершенства этого мира, начинает его менять. При этом вокруг полно мудрецов, которые только разводят руками: мол, ну что поделаешь, таковы обстоятельства, будем к ним приспосабливаться. Ведь мир не поменять — поменяем нашу точку зрения на него. А Лиза говорила: «Нет, я не буду никогда менять свою точку зрения. Я буду менять мир».
— И мир меняется?
— И мир меняется. Возможно, не в глобальном масштабе всего человечества, но в конкретной вселенной одного ребенка меняется все. Или в жизни тех, кто был инфицирован Лизиной страстью помогать другим (я имею в виду волонтеров, которые собирались вокруг нее). К примеру, наш продюсер Александр Бондарев — не познакомься он с Лизой, он вряд ли когда-нибудь снял бы этот фильм.
— А что было для вас самым важным во время съемок: передать характер и индивидуальность конкретного человека, не превратить вашу героиню в икону или сформулировать какое-то очень важное социальное высказывание?
— Все, что вы перечислили, было важным. Совершенно не хотелось превращать Лизу Глинку в икону! А что касается социального высказывания... Понимаете, мы все-таки снимали художественное кино. Поэтому старались, чтобы «социалочка» не вылезала на первый план, чтобы она была органично вмонтирована, спрятана и проглядывала незаметно.
— Но почему такой фильм, как «Доктор Лиза», появился именно сейчас?
— Мне кажется, что многим сейчас не хватает какого-то искреннего разговора об очень простых, но важных, жизнецементирующих вещах. Разговора о том, что если ты занимаешься чем-то хорошим, то и в твоей жизни все обязательно будет хорошо. Запрос на такую искреннюю, теплую, обнадеживающую беседу в современном российском обществе очень велик. А еще я бы хотела, чтобы люди выходили из кинотеатра с очень хорошим настроением. И с ощущением того, что они тоже могут изменить мир. И чтобы каждый из них мог сказать: «Вот я, Петр Иванов, могу сегодня совершить какой-то крохотный, но очень хороший поступок — и мир изменится. Я, конкретный зритель, в состоянии это сделать».
— Чулпан, и еще один вопрос, под занавес. Что для вас любовь?
— Это жизнь. Любовь — это и есть жизнь. Это составляющая каждого мгновения нашей жизни.
— Но в жизни множество составляющих. И очень разных...
— Если в этих составляющих нет любви, то они бесполезны. И неважно даже, о какой именно любви мы говорим: о любви к детям, к родителям, к работе или к чему-то еще. Жизнь — это любовь. И никак иначе.
Материал опубликован в № 9 газеты «Культура» от 24 сентября 2020 года.
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва». На анонсе кадр из фильма «Доктор Лиза».


