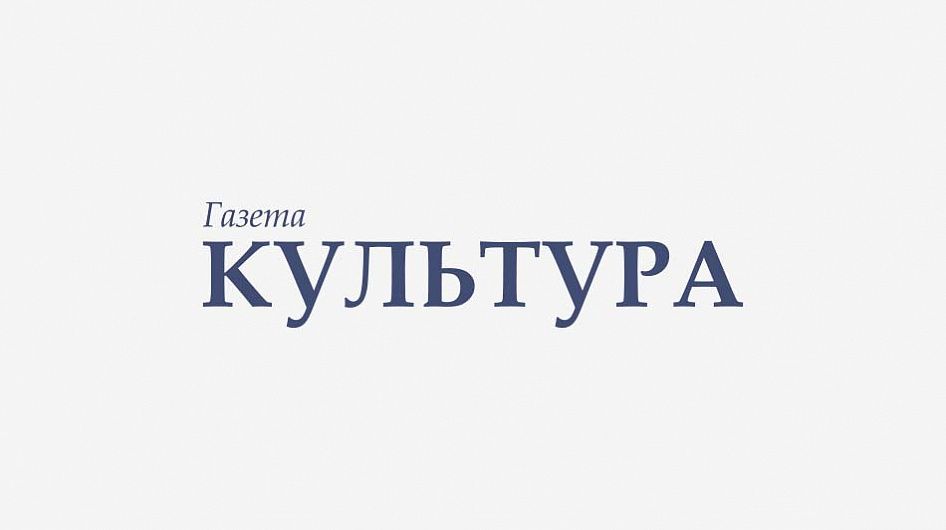
И дольше века длится гул
Его называли Гамлетом XX века, рыцарем русской поэзии, тайновидцем. Сравнивали с «одноименным» овощем, приправившим заморскую отраву, от которой воротит весь народ. 10 февраля исполняется 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака. «Неуставной классик» гордился неучастием в собственной судьбе — может быть, поэтому в ней так активно действовали сторонние силы.
Львиный рык мнимого бессмертия, психушка, зомби, водка. Примерно такой образно-символический ряд возникает на подмостках авангардистских сцен, когда ищущие политической остроты постановщики решаются на инсценировку одной из самых раскрученных русских историй — «Доктора Живаго». Балалайка и медведь, пляшущий вприсядку, в первоисточнике отсутствующие, прилагаются.
В принципе, сделать душераздирающий триллер можно и из «Волка и семерых козлят», но история по-фаустовски неоднозначного Юрия Андреевича и его возлюбленной — фактурнее. В докторе неизменно видят или «своего», или социально «чужого», не догадываясь, что Живаго разминулся с обществом на пару-тройку веков... Впрочем, гётевские аллюзии — для литературоведов. И прежде чем в них разобрались, странноватый медик-поэт, «нечто среднее между Карамазовым и Вильгельмом Мейстером», успел сослужить недобрую службу своему создателю, превратив «безыдейного» философа-интеллигента в «литературного Власова». Далекого от страстной борьбы, шума и быта затворника — в ярого антисоветчика, транспарант с чужих баррикад. Спустя три десятилетия после смерти, на волне «пастернаковского бума», сторонившийся всякой дидактики писатель и вовсе застыл торжественным монументом. Вернулся тем самым каменным гостем, о котором писала в «Стихах к Пушкину» Цветаева.
С Пастернаком Марину Ивановну связывал многолетний эпистолярный роман. «Вы — сплошь шифрованны. Вы безнадежны для «публики». <...> Вы переписка Пастернака с его Гением. <...> Если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь «отстать», другие, зорчайшие — чуя. Но знать... Да и я Вас не знаю, никогда не осмелюсь, потому, что и Пастернак часто сам не знает, Пастернак пишет буквы, а потом — в прорыве ночного прозрения — на секунду осознает, чтобы утром опять забыть».
Многие годы спустя в Переделкино приехал знаменитый композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Американец сетовал, как трудно вести разговор с советским министром культуры. «При чем тут министры? — задумчиво отвечал поэт. — Художник разговаривает с Богом, и тот ставит ему различные представления, чтобы ему было что писать. Это может быть фарс, как в вашем случае, а может быть трагедия».
О том, что поэт «слышал звуки, неуловимые для других, слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века не расслышал», писал Илья Эренбург. О «нездешности» Бориса Леонидовича твердили все, кто был с ним знаком. Наркомы, литераторы — обласканные и опальные, друзья, родные, ученики, оппоненты. В 1922 году, после публикации сборника «Сестра моя жизнь», молодые поэты ходили за Пастернаком толпами, стараясь не упустить ни единого слова. Ему подражали больше, чем Маяковскому. Многие поняли, что Пастернак — поэт даже не от Бога, а сам Бог-сочинитель, «тайновидец и тайносоздатель».
Иррациональность, способность видеть явления в их первозданности, свежесть неприбранной обыденности, неточности, которые воспринимаются как поэтическая органика. «Шифр» Пастернака пытались разгадать многие исследователи. Но простые слова и новые смыслы неуклонно разбегались золотыми рыбками из метафизического садка.
Имбирно-красный лес, змеи, вежливо жалящие в овсе, Фигаро, низвергающийся с пультов и флейт градом на грядку. В пастернаковских несуразностях педанты усматривали небрежность, специалисты — веяния символизма и футуризма. Впрочем, всякая попытка, будь то критики или классификации, неизбежно натыкалась на пастернаковскую простоту: «Насторожившись, начеку / У входа в чащу, / Щебечет птичка на суку / Легко, маняще».
А чего стоит «тысяча биноклей на оси» в знаменитом «Гамлете». И тут же в диссонанс с биноклями и «Авва Отче» вступает народная мудрость, вынесенная в последнюю строфу: «Жизнь прожить — не поле перейти». И хотя стихотворение может «похвастаться» завидным числом трактовок, неискушенному читателю ничего не остается, как задаваться вопросами. Почему Гамлет, когда стихотворение написано от лица Иисуса? Откуда взялись подмостки? Считает ли Пастернак, что Гамлет и Иисус равны по значимости? Намекает, что Иисус играл? Или поэт относился к жизни, как к игре, следуя заветам постмодернистов?
«Есть в России довольно даровитый поэт. <...> Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью», — «разобрался» с Пастернаком его упорный недоброжелатель Владимир Набоков.
«У Пастернака никогда не будет площади, — предрекала Марина Цветаева. — У него будет <...> множество одиноких, одинокое множество жаждущих. На Маяковском <...> либо дерутся, либо спеваются... Действие Пастернака равно действию сна». Когда наделавший шума роман увидел свет (рукопись была предложена журналам «Новый мир» и «Знамя» в 56-м, а в 57-м издана на итальянском языке в Милане), ни Маяковского, ни Цветаевой уже не было на свете. Пастернак обрел площадь. Драться и спеваться начали на нем.
Гениальное произведение. Вершина прозы. Бесстыжая клевета на советский строй («Даже свинья не гадит, где ест», — отозвался в кулуарах Хрущев). Книга, имеющая «огромную пропагандистскую ценность» и «шанс заставить советских граждан призадуматься», — формулировка из рассекреченных архивов ЦРУ.
Пока советские публицисты возмущались воскресшим Иудой, а на предприятиях проводились гневные собрания трудящихся, в Вене и Брюсселе изданные в карманном формате экземпляры раздавали всем желающим. Особенно туристам из соцстран. В 58-м Шведская академия присудила Пастернаку Нобелевскую премию «за продолжение традиций великого русского эпического романа» (кандидатуру писателя выдвинул Альбер Камю). «Чрезвычайно благодарен, тронут, горд, изумлен и смущен», — отреагировал Борис Леонидович телеграммой. Но уже через четыре дня последовала другая: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому принадлежу, я должен от нее отказаться». Когда скандал набрал предельный градус, Пастернак обратился с письмом к Хрущеву: «Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рождением, жизнью и работой».
Гул не затих и полвека спустя. Недавно ЦРУ опубликовало одну из своих директив, датированную декабрем 1957 года, в которой рекомендовалось уделить особое значение обнародованию романа. «Доктор Живаго» должен быть опубликован максимальным тиражом, в максимальном количестве редакций для последующего активного обсуждения мировой общественностью, а также представлен к Нобелевской премии», — говорится в документе.
«Живаго» — великий роман, который неинтересно читать», — такие отзывы станут обычными, когда книга окончательно покинет диссидентские списки. Фаустовская неоднозначность персонажа, воскресение как цель, библейские мотивы (идея бессмертия, достигаемого тогда, когда человек воспринимает всю боль и все счастье этого мира, как свои собственные), гимн Вечной Женственности, заимствованный у Гёте, параллель Лара — Гретхен — прекрасный материал для исследовательской работы. Казалось бы, роман насыщен глубочайшими философскими рассуждениями, автор говорит о самом главном, о бессмертии и смысле бытия, а читателю скучно. «Цепляет» в книге живое — тетрадь стихов Юрия Живаго. И даже не осилившие пятисотстраничного романа помнят звучащее, как сакральный заговор: «Свеча горела на столе, / Свеча горела».


