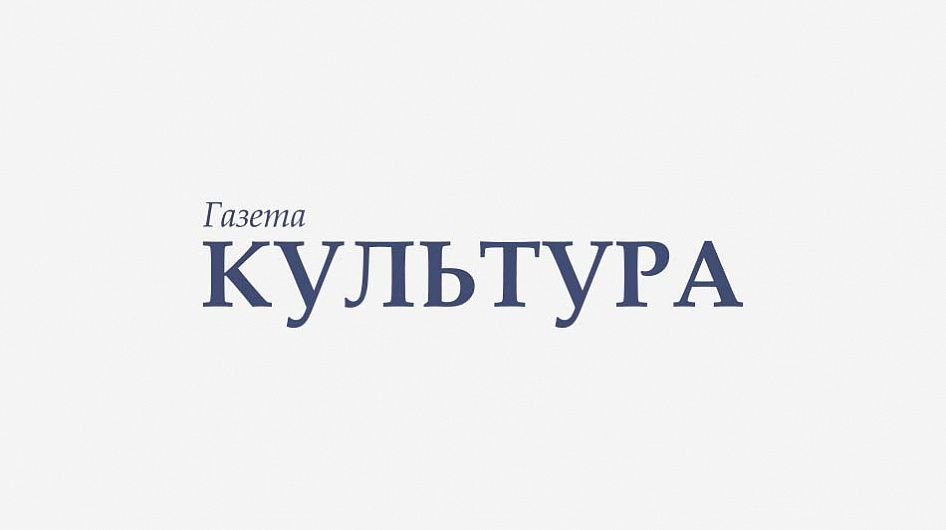
Виктор Астафьев: «Мы долго жили в казенщине, разлученные друг с другом»
— Много в истории нашего отечества было хорошего, о чем стоило бы помнить. Например, о том, что испокон веку перед двором в деревнях зобёнки делали. Продалбливалось в столбах окошко, туда выставлялась дощечка такая. Где-нибудь, может, увидишь еще в сибирской деревне. Над дощечкой — козырек. Зобёнкой зовется, потому что с крышкой. Ставили туда туесок с квасом, солонку. И кусок хлеба, или сухарь, или калачик. Это для всех, кто идет мимо — каторжник ли, коммунист ли, поляк ли, германец... В голодные годы у нас зобёнку заколотили и отпилили. И бабушка потом под столб стала класть еду...
С этого и начались наши все беды, когда тронули устоявшуюся столетиями, тысячелетиями жизнь. Зобёнка ведь устанавливалась не так просто: людское горе вынудило форточку эту делать, дощечку прибивать. Просто люди хотели добра, еще в Бога верили и в то, что за это Бог и тебе добра даст. Как бы взаймы давали. Утрата инстинктивной потребности делать добро очень печальна...
Ну, а на чем мы на фронте стояли? Почему такая крепкая дружба была? Потому что ты всегда надеялся, что тебя не бросят, помогут. Вот меня не бросили, когда я был без сознания, в глаз раненный. Кто-то ж вытащил меня. И в последний раз друг меня вытащил, и я друга вытащил...
— Сейчас ребятишки-то — на бетоне выросшие. Слава Богу, дачи появились, тут они хоть увидят, что не на ветках растут булки, что картошку надо садить, наклоняться, окучивать, копать, пропалывать... А там, глядишь, какая-то собачонка завелась, а кое-где и лошади появились. И возникает к живому миру, пусть даже не любовь, а хотя бы сочувствие, привязанность. Вот моя внучка, стрикулистка, какая была: все ей нипочем — и огород, и гряды. А потом я заставил ее цветок посадить. Посадила. «Дед, ты там смотри, цветок мой не вырви». Ее цветок!
— Мы так долго жили в казенщине, разлученные друг с другом. Какой бы ни был, ребенок, а он под ногами, тут вертелся. Ему тепло было и хорошо. Теперь дети живут врозь. Сначала в садик, потом в школу — совсем солдатик. Смотришь, а ему уже пятнадцать, вредничать начинает, тебя не признает. Маменькиным сыночком и дочкой нехорошо быть. А не маменькиным — еще хуже...
Вечером возьмут из детсада, а уже надо спать ложиться. Утром мать торопится, а мальчишка за ней бедный, ножонки не поспевают. Он тянется к ней, а она: «Беги ты!» И по жопе его. Он бы по-хорошему спал еще...
Правда, наша внучка Полина с удовольствием ходила в детский садик. У нее была здоровенная деревенская баба-воспиталка Альбина. Она была ей, как мамочка. Потом Полина пришла в начальную школу к Надежде Сергеевне, замечательной учительнице! Я говорю: «Вот эти бы три класса да продлить на десять лет!» Снова наша сирота попала к мамочке. Я только подсказал: «Вы за ней следите, чтоб она не сшустрила, а то может глупость какую-нибудь сделать». Если бы ее мать жива была, она бы ей наподдала уже сотню раз. Хотя любила ее безумно. Как будто знала, что умрет. Полине четыре с половиной годика тогда было. Маленькая совсем...
— Всяк по-своему любит. Может, называет любовью какие-то другие чувства. Вообще-то мы, конечно, слишком часто употребляем это слово — «любовь». Меня бабушка лупила с утра до вечера. Так и поддает, так и поддает. Да я как-то всерьез это не воспринимал. Она же и страдала, и любила, и оплакивала. Ноги мажет мне нашатырным спиртом и по жопе поддает. Лечит. А дедушка пальцем никогда не трогал. Он был как антипод бабушки. Я чуть чего — сразу под его защиту. Та на него... Ну, об этом целый «Поклон» написан. Она ж генерал: было у нее много детей, а тут я один остался. «Тошно мне: коммунист, коммунист. Че вот из него будет, девки?» Я же стал огрызаться. «Артист будет! Каторжанец будет! Не, артист не будет: артисты представляют людей добрых, веселых. А ты идиот, каторжанец!» Дедушка был замечательный человек. Совершенно смиренный, мало слов говорил. Она все на него: «О, какой тяжелый человек — на лес глянет, лес вянет»... Я знал, что все было понарошку, как игра. Кроме любви, ничего у меня от бабушки не осталось.
— Мне бабушка и дедушка никогда не давали присутствовать при забое скота. Найдут причину и с утра выдворят: «И до вечера не приходи!» Чтоб не видел крови, мучения животных. Ведь мы привязывались к маленькому теленку, а тут его режут на мясо. Мне бы показали, так я бы еще и блевать начал. Бабушка все меня ругала: «Порченый, порченый! Не показывайте вы ему! Че вы ему показываете? Че рассказываете? Он запоминат все! Потом срамотищу всякую порет! Вы при нем осторожнее!» А как же? Я матерщину, маленький, наслушался, думал, что хорошее, и пошел к бабушке. А до этого был в доме отдыха с дядей Мишей и тетей Маней и матерные частушки выучил. И давай их пластать. А бабушка: «Тошно мне, тошно! Вот да грамотей!»
— Недавно я посмотрел Канский детдом. Там хорошие условия, много воспитателей, уклон трудовой. Все что-то делают. Малышки клеят: «Дяденька, я вот тут изобразил ракету». Постарше шьют сами, в комнатах прибираются. Все прекрасно, что с трудом. Беда в том, что там так хорошо, в детдоме — с едой, со всем остальным, что государство вообще может взять детей к себе. Условия домашние гораздо хуже бывают. Особенно у людей пьющих, безработных. Некоторые и рады бы жить иначе, да не получается. А в детдоме организованная жизнь, режим питания. Так что можем дожить до того, что начнет детей государство воспитывать. Спарта получится.
— Не люблю мужиков, которые плохо говорят о бабах. Особенно разведенных мужиков. Когда начинают поливать: такая-сякая. Для меня такой мужик уже сам хуже бабы, о которой он говорит. Не люблю тех, кто плохо говорит о своей первой любви. Терпеть не могу, когда говорят о первом сношении с женщиной, деле тайном, не подлежащем оглашению. Все-таки говорил великий поэт: «Расступись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани!» А мы разучились все это хранить.
Можно кое-что показывать. Надо только подняться до этой высоты. Есть новозеландское кино «Пианино», где целиком половой акт снят. Натурально снят. Замечательно. Естественно. И воспринимается он, как материал этого кино, продолжение его. И как естественный ход жизни. Извините, нас все-таки не в капусте находят. Но до этого подняться надо. Чтоб тайну свято сохранять. Когда мы все раздеваем — и тайну, и себя, ничего хорошего не получается.
— Говорят, что в кино не ходят, что ему удар нанесен. А удар нанесли сами киношники, когда стали рассказывать о том, как все делается. Пока мы верили, что все это взаправду, мы ходили по десятку раз на «Чапаева», все ждали, когда он выплывет. Мы все думали, что это так и происходит. И когда артист возникал потом без грима, даже удивлялись: «Вылечился, значит. Вышел из госпиталя!» Понимаете, разоблачение искусства, снятие с него какой-либо тайны наносит огромный удар самому искусству, кино, театру. Причем у меня масса знакомых, великолепных артистов, которые совершенно со мной согласны: не надо говорить про внутреннюю жизнь в театрах, не надо за кулисы лезть. И тут же уезжают и начинают публику морочить... У меня были спектакли по моим книгам, в хороших театрах шли. Но я страшно не люблю бывать за кулисами, во все вникать. Есть те, кто говорит, что знает, как все сделано из фанеры. А я традиционен: люблю декорации старые, люблю, чтоб занавес закрывался и открывался. Условность, доведенная до абсурда, никакой пользы не приносит. А между прочим, уважающий себя театр так не делает. Был я в Вене, в музыкальном театре, там шла оперетта Штрауса. На сцене — великолепная старая декорация, укрепленная. Открыли бархатный занавес. Все сияет, музыка играет! Потрясающе!
Зачем мне смотреть «Гамлета», когда Высоцкий дует под гитару, что-то поет, изображает, лазит по чему-то верхом? Извините, это не «Гамлет», это по поводу «Гамлета» что-то сделано. А здесь все сохранено — и свет, и серебряная пыль эпохи.


