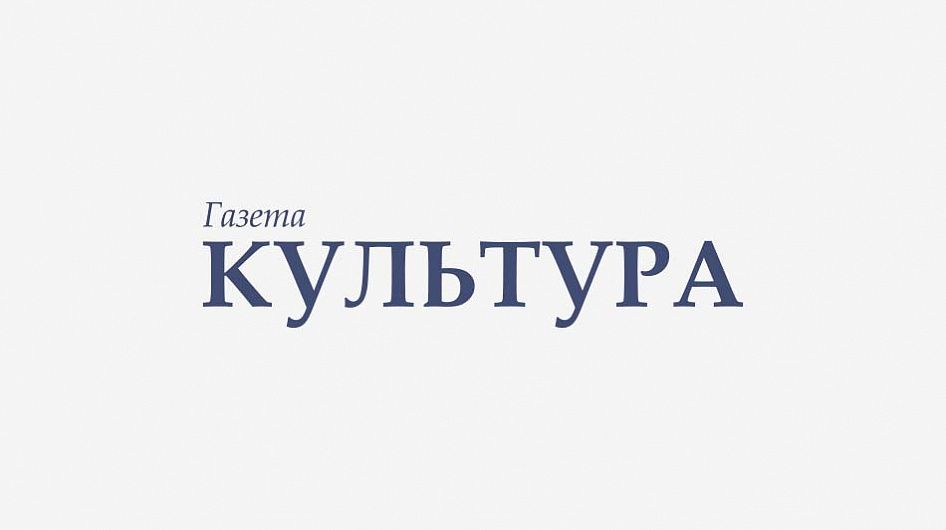В детстве у меня была книжка Мамина-Сибиряка и, конечно, это были «Аленушкины сказки». На обложке — идиллическая заснеженная деревенька, рядком избушки, дружно выпускающие белоснежный дым из печных труб, морозно-голубое небо, ребятня, резвящаяся на горке. На страницах весело переговаривались игрушки, растения и представители животного мира: Воробей Воробеич, Ерш Ершович, Комар Комарович и, конечно, канонические Медведь и Заяц — они спорили, щеголяли смекалкой и учили друг друга уму-разуму. После того как игрушки «ожили» и затеяли драку, я стала присматривать по ночам за куклами...
Советская критика ценила Мамина-Сибиряка за участливость, сочувствие к «трагической судьбе Прошек, Михалок и Тимок» и еще за идеологически-выверенную биографию. Известно, что Дмитрий Мамин родился в небогатой семье, провел юные годы в бурсе, затем, забросив Пермскую духовную семинарию, сблизился с революционными студенческими кружками и, отказавшись от учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета ввиду материальных трудностей, навсегда связал свою жизнь с писательством. Так, из-под его пера вышел роман «Черты из жизни Пепко», исповедальный и отчаянный, позднее признанный одним из самых ярких его произведений.
Затем был успех. Вкусные, почти осязаемые рассказы и новеллы Сибиряка давали ход искренним и колоритным персонажам: уральским старателям, охотникам, шахтерам, швейцарам, вездесущим мальчишкам — словом, той разношерстной и непривычной читателю публике, которую, по словам самого же автора, объединяли «ум, железная воля, самодовольство, жестокость, дикое великодушие».
Затем был фурор: «Приваловские миллионы», создававшиеся на протяжении десяти лет, снискали писателю славу «основоположника отечественного социального романа». Изданный годом позже, в 1884-м, другой звездный роман — «Горное гнездо» — создал репутацию «русского Золя». Казалось бы, фортуна улыбнулась: писатель женится по страстной любви на актрисе Марии Абрамовой, переезжает в Петербург… Однако Мария умирает, оставив на руках отца болезненную Аленушку, лирическую героиню нашего любимого детского сборника, Елену Дмитриевну Мамину, ушедшую из жизни в возрасте 22 лет…
«Припомни наших богатырей, которые, падая на сырую землю, получали удесятеренную силу. Это глубоко верная мысль», — замечал Мамин-Сибиряк в письме к брату. Современные критики любят писателя за «этнографичность»: его герои — старатели, мастеровые и мальчишки — не выходили из гоголевской шинели. Затертый романтический фразеологизм «душевная глубина» ассоциируется здесь с глубиной земных недр, а тайны эмоциональной жизни уподобляются сокровищам, скрытым в этой земле. Вот почему угловатость Пепко похожа на «камни, которые высились на его далекой родине», а рудничный смотритель Ефим Андреевич («Три конца») видит недра «на два аршина под землей».
Михеич усердно чистил бронзовые скобки тяжелой дубовой двери Крутоярского торгового банка и рассуждал вслух:
— Павел-то Митрич придет, так все узорит… Он, брат, на два аршина под землей видит! Каждое пятнышко… только взглянул, и готово. Хе-хе… Орелко!..
На городской каланче пробило девять, а банк открывался только в десять. Значит, оставался еще целый час, и Михеич «наводил чистоту». Устав тереть суконкой, Михеич делал передышку и некоторое время любовался рекой. Давно ли тут вон пустой берег был, — так, барки приставали да плоты, — а теперь и пароходные пристани, и каменные товарные склады… Людей тоже умножилось. А какие дома везде понастроены...
… К подъезду банка тихо подъехал старинный тяжелый экипаж, из которого не торопясь вышел седой, степенный старик. Михеич вытянулся в струнку и отрапортовал:
— Раненько изволили пожаловать, Савелий Федорович… Еще половина десятого, а наш банк начинает в десять. У нас порядок — первое дело…
— Знаю, знаю… Ничего, подожду. — Старик с трудом поднялся на крыльцо, остановился, вытер лицо красным бумажным платком и сказал кучеру, чтобы ехал домой.
После некоторого раздумья старик спросил каким-то подавленным голосом:
— А Павел Митрич сегодня будет?
— Должны быть-с…
— Так, так… Вот я два раза был и не могу дождаться.
— У них делов весьма даже много. Везде не поспеют — и в суде, и в банке.
— И ведь я тоже по делу, Михеич. В третий раз приехал…
— Уж это что говорить, Савелий Федорович. Конечно, не зря пойдете и себя будете тревожить… Да вы пожалуйте ко мне в каморку, чем тут на крылечке торчать. Еще увидят и скажут: вот Савелий Федорыч в банк приехал. Известно, зачем к нам купцы-то наезжают. Мораль пойдет. А касаемо моей каморки не сумлевайтесь — самые первые купцы сиживали.
...Швейцарская, как все в банке, была устроена «на чистоту» — светлая, высокая комната, выходившая одним окном на реку. Михеич хотя и жил бобылем, но содержал все в порядке. А вдруг Пал Митрич заглянет. Ведь у него никто не был на уме… Савелий Федорович перекрестился на образок и тяжело опустился на поданный Михеичем стул. Да, привел Бог и в швейцарской посидеть….
— Я вам так скажу, Савелий Федорыч, — болтал Михеич, останавливаясь в почтительной позе, — конешно, вы купец первой гильдии, и конешно, у вас старинное, родовое дело, а все-таки, по-моему, по-глупому, этот наш банк, пряменько сказать, в том роде как мышеловка… Ведь я все вижу, да. Сперва-то купечество как будто и чуралось его, а потом и пошли.
...А Савелий Федорыч сидел в швейцарской и наблюдал, как «начинается банк». Мимо окна по тротуару шли служащие, артельщики, посыльные, подъехали два члена правления, один член учетного комитета — все знакомые люди, которых он знал в лицо. Сами по себе и люди хорошие, честным трудом зарабатывавшие себе кусок хлеба, только работа какая-то мудреная: сидит человек, считает, записывает в десять книг, а в результате — несколько новых разорений. Где-то хлопали двери, отворялись шкафы, слышались быстрые шаги торопившихся людей, — машина запускалась полным ходом. К банку начали подъезжать клиенты: приказчики с чеками, мелкие прасолы, какие-то старушки-чиновницы, молодой адвокат, соборный дьякон, богатый мужичок, подрядчик — набиралась та пестрая публика, которая ежедневно проходила мимо Михеича, внося с собой самую едкую заботу о деньгах, взысканиях, предъявлении, отсрочке, погашении, обмене...
— Что же Павел-то Митрич? — с тоской спрашивал старик метавшегося Михеича. — Вот уже близко к одиннадцати…
— Будут-с скоро… Проснулись и изволят какау кушать. К ним уж подсылали…
...Простой член правления крутоярского торгового банка, частный поверенный Павел Дмитрич, являлся страшной силой, как маховое колесо, приводившее в движение всю машину. От него зависело все. ...Значение Павла Дмитрича достигло своего апогея благодаря охватившему край голоду. Купечество среднего разбора разорялось наповал, и от Павла Дмитрича зависела жизнь и смерть: один протестованный вексель убивал навсегда торговое имя, отказ в учете делал фирму несостоятельной.
Старик Савелий Федорыч, один из крупных хлеботорговцев, долго выносил эту систему благодаря своему капиталу и широкому доверию, каким пользовался в коммерческом мире; но голодный год убил его... Чтобы продолжить работу, нужно было иметь живой капитал, и вот седой старик сидел в швейцарской, терпеливо ожидая, когда появится всесильный Павел Митрич, от которого зависело, открыть ему кредит или не открыть...
...И он пришел… Все знали и то, что Павел Дмитрич нарочно не приехал два раза, чтобы выдержать старика. Ничего, подождет… Все знали, что сегодня Павел Дмитрич приедет и примет его. Не один Копылов шел по этому тернистому пути….
— Едет… едет… — пронесся шепот, и спины согнулись еще ниже над гроссбухами, а костяшки счетов выделывали какую-то лихорадочную дрожь, точно чавкала какая-то деревянная челюсть с деревянными зубами.
Павел Дмитрич, среднего роста плечистый мужчина с крупной угловатой головой, вошел в зал под руку со стариком Копыловым, — это была его привычка брать под руку банковских клиентов. Когда они проходили мимо решетки, служащие почтительно кланялись, а Павел Дмитрич отвечал легкими кивками. У него было самое простое, широкое, бородастое русское лицо с мягким носом и быстрыми неопределенного цвета глазами.
— Очень, очень рад вас видеть, дорогой Савелий Федорыч, — повторял Павел Дмитрич, уступая место в дверях директорского кабинета старику. — Вот посмотрите, как мы тут живем и как работаем…
Говорил Павел Дмитрич плавно и убедительно, втягивая в себя воздух. Савелий Федорыч смущенно смотрел кругом и не знал, что ему отвечать...
— Идемте ко мне, — предложил Павел Дмитрич, отворяя сам дверь в советскую комнату.
Старик только вздохнул. Он предчувствовал что-то дурное, но не знал только одного, именно, что его дело было уже обсуждено и решено раньше, прежде чем он взялся за ручку банковской двери. У Павла Дмитрича была целая система давить не зависевших от банка старинных коммерсантов.
Весь банк замер в ожидании, как выйдет старик Копылов из совета. Все знали и то, что его участь решена и что сейчас проделывается только одна комедия. В свое время придет и старик Гаряев и тоже не минует рук Павла Дмитрича.
Больше всех волновался внизу Михеич. Он жалел почтенного старика, попавшего в лапы банковских отцов. Михеич несколько раз выглядывал в коридор.
— Долгонько держат… — размышлял швейцар, заглядывая на часы.
Наконец, показался и Савелий Федорыч. Он шел бодро, но не видел ничего перед собой. За ним бежал секретарь.
— Савелий Федорыч, картуз забыли…
— Ах, да!.. Спасибо.
В передней старик пошатнулся и, вероятно, упал бы, если бы Михеич его не поддержал. Он выпил стакан воды и пришел в себя.
— Голову обнесло? — участливо спрашивал Михеич. — Это от жару-с…
Старик ничего не слышал, поглощенный одной мыслью. Да, теперь он разорен, разорен на старости лет, когда банковским отцам стоило сказать одно слово… Но разорения мало, а нужно было еще его унижение. Он умолял, просил, чуть не плакал…
Выйдя на подъезд, старик обернулся и проговорил:
— Будь вы прокляты, банковские разбойники!..
Дмитрий МАМИН-СИБИРЯК