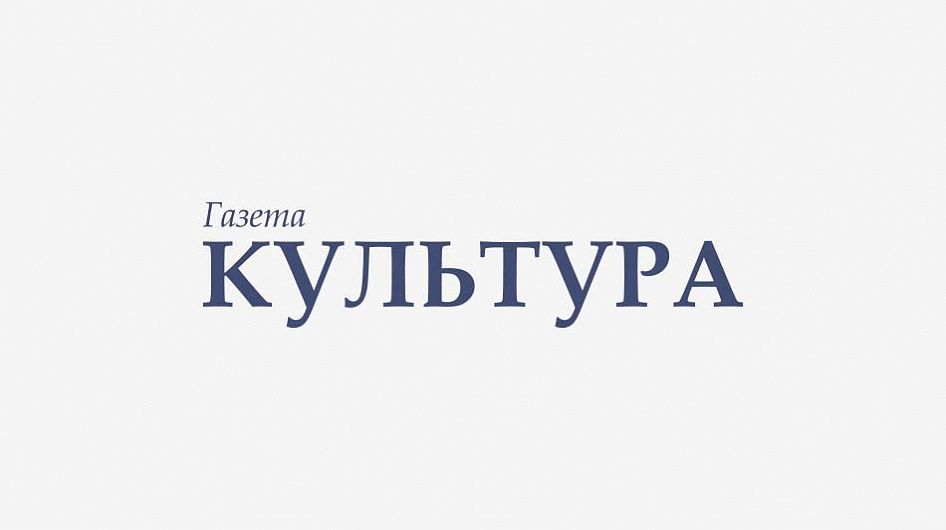
Масон на тонком льду
Исполнилось 275 лет со дня рождения Алексея Ржевского — забытого русского поэта екатерининских времен, лирика, трагика и таинственного свидетеля бурной эпохи.
С одного из двух уцелевших изображений Алексея Ржевского смотрит худое задумчивое лицо совсем юного офицера. Нетипично для портретов XVIII века: ни показной напыщенной парадности, ни столь же фальшивого «опрощенчества».
Как поэт Ржевский прославился рано и скандально. В двадцать с небольшим он влюбился в диву из знаменитой заезжей итальянской труппы Локателли. История сохранила и ее имя — Либера Сакко, и мадригал, сочиненный для нее Ржевским.
Мадригал попался на глаза императрице Елизавете. Общественное положение актрис в те годы хорошо известно — и стих был запрещен к печати. Современному читателю причина может показаться диковатой: на обширнейших просторах империи только одна дама имела право на «прелестный взор очей, осанку несравненну» — сама Елизавета.
Думается, история эта в дошедшем до нас виде крепко отдает антимонархической пропагандой. Все-таки трудно вообразить, что двадцатилетний юноша серьезно пострадал за какой-то там мадригал, написанный для любовницы. Интереснее тут другое.
Стихи были вымараны из журнала, где уже публиковался Ржевский. Издавал его маститый литератор-просветитель Михаил Херасков — будущий автор «Россиады». Широко распахивает он двери своего дома на Малой Дмитровке для талантливой молодежи, и юные поэты радостно приносят ему стихи для журнала. Здесь бывают Богданович, Державин. Бывает и Алексей Ржевский.
Контрастом мягкому, насмешливому Хераскову — другой мэтр. Заносчивый, талантливый и вздорный, моралист и враг пороков — «почтенный Сумароков» уже чувствует себя успешным создателем «феатра русского» и вообще первым русским сочинителем. Ему за пятьдесят, и он с удовольствием принимает поклонение молодых дарований. Ржевский преподносит ему самое искреннейшее: «Я вас начал почитать почти с ребячества…»
В сущности, в доме на Малой Дмитровке впервые возникло явление, которому суждено будет сыграть огромную роль в истории русской словесности: у Хераскова собирался первый русский поэтический кружок, где молодежь под зорким глазом мэтров читала стихи, переводила с немецкого и французского, спорила. Сколько еще их будет — от лицеистов до шестидесятников!
Но московская молодежь еще не подозревает, что ждет ее в ближайшее время: быстрый закат сумароковской звезды, бурная державинская судьба, тихое и упрямое просветительство Хераскова, масонские журналы и их разгром, поиск Богдановичем издателя для своей «Душеньки», которого он двадцать лет спустя найдет… в лице Алексея Ржевского. А мэтры еще не знают, что в 1762 году их призовут готовить грандиозный карнавал по случаю коронации Екатерины — «Торжествующая Минерва». И что с этого карнавала даст трещину судьба обоих — и Сумарокова, и Хераскова.
Зато перед молодежью откроются перспективы блестящие. У Ржевского тоже виды на карьеру — как поэтическую, так и служебную. Ни той, ни другой он поначалу пренебрегать не собирается. Биографические данные говорят сами за себя: уже в молодые годы он станет вице-директором Академии наук и президентом Медицинской коллегии, в сорок шесть получит тайного советника, а в совсем зрелом возрасте займет должность совестного судьи. Серьезнейший человек. А что же стихи?
«Как я стал знать взор твой, С тех пор мой дух рвет страсть; С тех пор весь сгиб сон мой, Стал знать с тех пор я власть» — одним этим странно звучащим стихотворением Ржевский и вошел в историю русской литературы: ода-эксперимент, вся составленная из слов односложных. Уникальный случай, вызывающий рискованные ассоциации с обэриутами. С поэзией, впрочем, такое случается: ненароком перешагнула полтора столетия и сама не заметила.
«Прости, Москва, о град, в котором я родился, В котором в юности я жил и возрастал…» — предвестие лиры первой половины века золотого, девятнадцатого.
«Долго ль прельщаться нам суетой? Долго ль гоняться тщетно за той?» — тут разрабатывается сложный размер, тогда еще не вошедший в русскую моду.
Ржевский оставил всего около двух сотен стихов и попробовал все. Даже написал политическую трагедию в модном тираноборческом духе. Название ее для современного уха скорее комично: «Подложный Смердий». Но это настоящая трагедия, сюжет которой взят из Геродота. Тираноборчества ее преувеличивать не стоит: хоть народ в ней и свергает жестокого правителя, но не потому, что жестокий, а потому, что трон занимает не по праву: настоящего Смердия умертвили, оказывается, еще во младенчестве, а его место занял хитрый самозванец. Трагедия была представлена на театре и успех имела немалый.
И вот тут, на пике перспективы, обрывается биография поэта Ржевского. Дальше — служба. Пожалуй, он, как никто другой, мог бы с гордой иронией добавить к известному романтическому трюизму: да, поэт в России – больше, чем поэт. Он еще и чиновник, и верный государев слуга.
Екатерининский век вольности дворянской в самом расцвете. Примерно в те же годы Гаврила Державин, неистребимый правдолюб и искушенный льстец, навещает приятеля по поэтическому кружку молодости в его райском уголке — семейном дворянском гнезде. Памятником этой встрече осталась ода Державина «Счастливое семейство», посвященная Алексею Ржевскому. Державин очарован до кончиков ногтей: хозяин поместья — «благочестивый, добрый муж»; «в дому его нет ссор, разврата... как маслина плодом, богата красой и нравами жена».
Второй из уцелевших портретов Ржевского, выполненный в технике силуэта на медальоне, совсем не похож на первый: толстый курносый профиль с двойным подбородком, парик, сзади подхваченный пышным бантом. Апоплексический стареющий вельможа, знавший толк в дамах, картах, выпивке и службе.
Что же до «красой и нравами маслины», то умный Державин знал, чем польстить: подлинное счастье принес Ржевскому этот, уже второй брак. Первая жена, светская умница и художница, знавшая несколько языков и написавшая роман в подражание французскому образцу, умерла родами вместе с первенцем. Приблизительно тогда же он написал краткую эпиграмму, слишком желчную и жестокую для певца любви неразделенной: «Я знаю, что ты мне, жена, весьма верна, — да для того, мой свет, что ты весьма дурна». Если эти строки обращены были к ней, отношения в первом браке у него и вправду складывались отвратительно…
Через пару лет после этой дружеской встречи пиитов Ржевский вступит в масонский орден, сделает там еще одну успешную карьеру и останется в масонах до конца жизни. Удивительное дело: за его жизнь сменились четыре монарха (причем два из них в результате заговора и убийства), расцвело и было разгромлено масонство, а еще — пугачевщина, аутодафе из книг, фаворитизм и дворцовые перевороты, опалы и ссылки друзей…
Умер он в 1804-м, уже при Александре I, в своем «райском уголке», успев стать кавалером Аннинской ленты и ордена Александра Невского. Стихи, по-видимому, давно забросил. Представить страшно, сколько политических драм разыгралось в России на его глазах. А ему, кажется, — как с гуся вода. Твердым шагом прошел по тонкому льду. Или, наоборот, — предельно осторожным?


