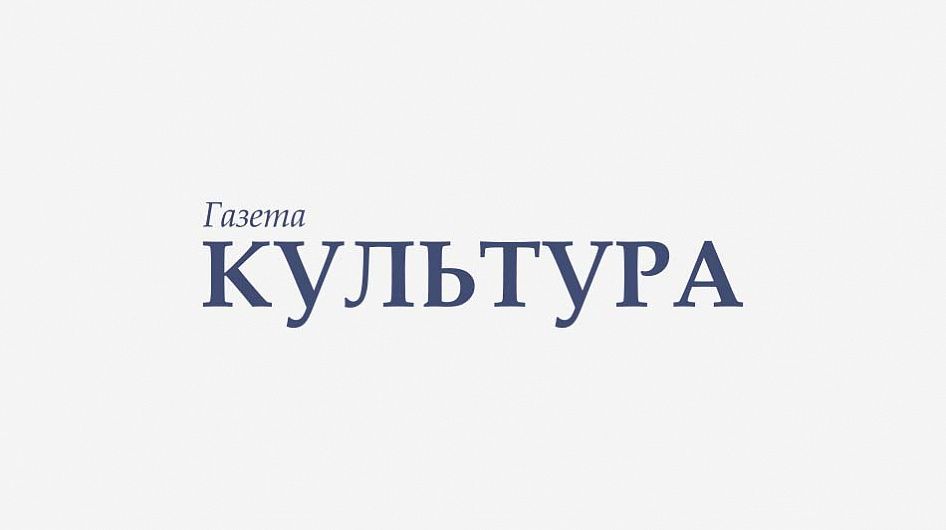
Борис, ты прав
В преддверии столетия Февральской и Октябрьской революций мы еще не преодолели трагический раскол на красных и белых. Далеко не все кровные и, что более важно, идейные наследники участников братоубийственной распри готовы к соработничеству на благо общей Отчизны. Да, те, кто до сих пор живет страстями 1917 года, отнюдь не доминирующая часть населения, но это как раз то энергичное и неравнодушное меньшинство, от позиции которого зависят судьбы большинства.
А между тем в отечественной литературе фундамент примирения давно заложен. И, пожалуй, первым сделал этот шаг писатель Борис Лавренев, родившийся ровно 125 лет назад, 17 июля 1891-го.
Почти всю Гражданскую Лавренев провел в Красной армии, но поначалу, недолго, был на противоположной стороне. Подобные «белые пятна» характерны для многих советских писателей. Однако затем они либо вообще ничего не писали о лихих годах, как сосредоточившийся на природе Бианки, либо, подобно Катаеву, хоть и подходили близко к разделительной линии, но возле нее так и останавливались. «Красно-белый» Лавренев линию перешел.
В последние двадцать лет происходило тотальное осуждение роли красных в событиях 1918–1922 годов. Считается, что это лишь ответная реакция на восхваление большевиков и позиционирование белых в качестве абсолютного зла, практиковавшееся в советские годы. Посыл верный, но до определенных пределов. Да, поэзия братоубийства властвовала над многими умами в 20-е — к примеру, во вполне себе людоедских стихах Джека Алтаузена: «За Чертороем и Десной / Я трижды падал с крутизны, / Чтоб брат качался под сосной / С лицом старинной желтизны. / Нас годы сделали грубей; / Он захрипел, я сел в седло, / И ожерелье голубей / Над ним в лазури протекло». Тогда же Эдуард Багрицкий вложил в уста Дзержинского, явившегося в бреду тяжелобольному комсомольцу, слова, бывшие принципом отношения к классовым врагам: «Но если он скажет: «Солги», — солги. / Но если он скажет: «Убей», — убей».
Постепенно однобокая кровавая романтика сходила на нет, уступая (либо же оставаясь в качестве не слишком популярного дополнения) более взвешенному подходу, взгляду на мир не только из-под надвинутой на глаза буденовки. Мода на «комиссаров в пыльных шлемах» вновь возникла в 60-е, совпав, как ни странно, с ростом популярности белогвардейских романсов и экранных красавцев-офицеров в золотых погонах и с обязательной грустью в глазах; потом любители и тех, и других будут радостно целиться в СССР и попадать в Россию. Но до этого было еще далеко.
Пока же Шолохов в «Тихом Доне», Фадеев в «Разгроме», Федин в «Городах и годах», Веселый в «России, кровью умытой» не чурались, рисуя «красную» правду, показывать жестокость, зачастую бессмысленную, обеих сторон и жуткую, апокалиптическую сущность происходившего. Особое место в этом ряду наравне с шолоховской «Родинкой» занимает «Сорок первый» Лавренева. А еще у Бориса Андреевича есть менее известный рассказ «Полынь-трава», словно соединяющий «Родинку» и «Сорок первый». У кого повернется язык сказать, что данные произведения — о победе одного политического цвета над другим? Это потрясающие по силе памятники христианской человеколюбивой традиции русской литературы, возведенные «от противного», через демонстрацию низшей точки античеловечности, сравнимой с глубиной преисподней. Что может быть чудовищнее, чем убийство отцом — сына, женщиной — любимого мужчины?
Да, можно пытаться найти оправдание случившемуся и даже увидеть некое величие в той трагедии: мол, только недюжинный народ способен поставить главные ценности и благо большой семьи под названием нация выше узкородственных связей. Однако это оправдание действует лишь до определенного момента. Помню, в детстве, еще не прочитав «Сорок первый», но уже увидев эту тонкую книжицу, я думал, что передо мной повесть о самых тяжелых днях Великой Отечественной. Сложно не найти в этом совпадении глубокий символ. Народ, разорванный братоубийственной рознью, пусть даже во имя поисков светлого будущего, бессилен перед внешним врагом. Значит, необходимо медленное и болезненное хирургическое сшивание, альтернатива которому — гибель страны. В 41-м большинство вчерашних белых и красных сделали, к счастью, верный выбор — то, что разорвано с кровью, ею же и было скреплено. Повторится ли такой выбор сейчас?
Конечно, Лавренев — это не только «Сорок первый», в разных изданиях собрание его сочинений занимает от пяти до восьми томов. Например, «Комендант Пушкин» — о стойком большевике, сурово судящем о великом однофамильце по строчке «Отечество нам Царское Село», а затем, в должности коменданта Царского (уже Детского) Села, нежно влюбляющемся в классово чуждое «наше все». И тут отзвуки «Сорок первого», выходит.
Есть они и в одном из самых леденящих рассказов отечественной литературы. Речь о «Срочном фрахте», где капитан американского судна в порту Одессы решает страшную дилемму: разрезать пароходную трубу, чтобы достать застрявшего там мальчика-чистильщика, но при этом лишиться работы из-за срыва срочного рейса, — или уйти вовремя, тайно оставив ребенка в трубе и спалив его заживо паром. Капитан свой выбор делает… и делает рассказ уникальным по проникновенности и суровости приговором капитализму, обжигающим, словно пламя в пароходной топке. СССР был жив, пока в советской литературе бился этот пульс искания и провозглашения социальной справедливости. Когда же доминировать стали герои Юрия Трифонова, на протяжении сотен страниц озабоченные обменом квартир, страна оказалась обреченной на крах и погружение в пучину самого дикого и отвратительного общественного строя, хуже того, которому выносил обвинение Лавренев.
И разве изжита эта болезнь, что в России, что в остальном мире? Только усугубилась. Свежий пример — мартовское крушение «Боинга» в Ростовской области. Экипаж упорно отказывался лететь в Краснодар на запасной аэродром, так как имел на сей счет строгий запрет от авиакомпании, не желавшей идти на дополнительные траты. Результат известен. Очевидно, иного будущего для России хотели оба лагеря, воевавшие в Гражданскую. Явно не того, чтобы иностранные компании из соображений экономии гробили русских пассажиров на русской же земле, а хладнокровные душегубы уже в наши дни жгли заживо людей в той же Одессе — сюжет «Срочного фрахта» теперь наполняется особым, двойным смыслом. Неприятие глумления над Россией — вот что должно стать основой посмертного примирения красных и белых и прижизненного — их потомков. Примирения, свою лепту в которое внес Борис Лавренев.


