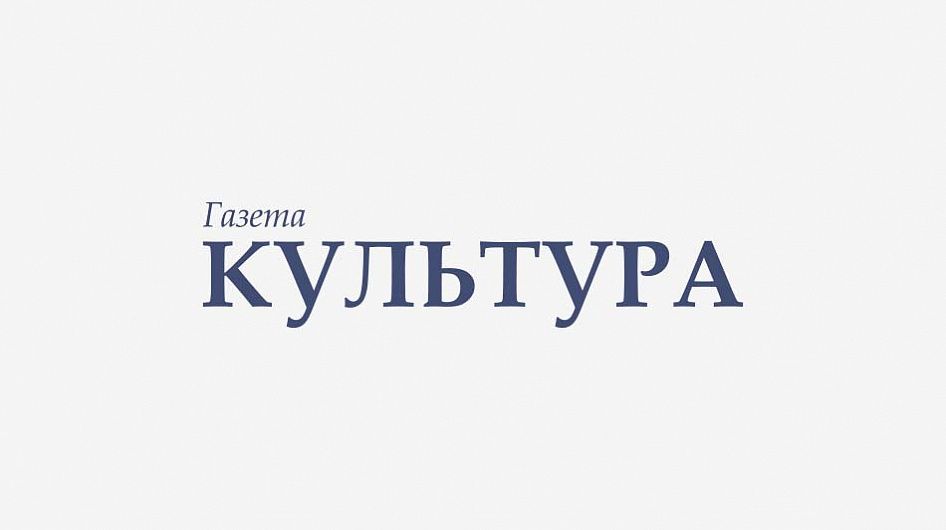
На золотом горшке сидели
24 января 240 лет назад в семье королевского адвоката и его набожной кузины родился магнетизер, способный слышать музыку в полуночном вопле котов и считывать предначертания рока в ухмылке бронзового дверного молотка. Эрнст Теодор Амадей Гофман не умер, просто «переселился в Россию».
По улицам столы скакали
Старый кофейник корчит рожи. Король овощей Даукус Карота ищет руки юной хозяйки огорода Анны фон Цабельтау. Сын богатого франкфуртского предпринимателя Перегринус Тис, сам того не ведая, держит в плену таинственного повелителя блох. Почтенный старец-архивариус оказывается огненным принцем — саламандрой, его дочь — золотисто-зеленой змейкой с хрустальным голоском. Не зря студент Ансельм потешал публику, вслушиваясь в волшебные звуки и обнимая бузинное дерево. Старуха, торговавшая овощами за углом, — просто гадкая свекла...
Долгое время не признанный на родине (в Германии любили серьезный, без примеси гротеска романтизм), Гофман настолько наэлектризовал русские умы, что писатель Василий Боткин констатировал в 1836-м «переселение» основателя Серапионова братства в Россию...
Пушкин с «Гробовщиком» и «Пиковой дамой» (одержимость роднит Германна с гофмановскими «энтузиастами» Натанаэлем, Медардом, шевалье Менаром — ради заветной мечты он готов взять на душу страшный грех), Лермонтов с неоконченной фантастической повестью «Штосс» — тоже о картах, Антоний Погорельский, «русский Гофман» князь Одоевский; конечно, Гоголь — «Нос», «Записки сумасшедшего» и особенно «Невский проспект», населенный важными неодушевленными предметами.
«Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и все в этом роде, так он был пьяница — «калаголик», как говорят грамотные кучера», — пожалуй, только Лев Толстой не поддался магнетическому обаянию того, кто пренебрег «жалким пластическим правдоподобием».
Слово «магнетический» тут не случайно. Всякий стремящийся быть понятым лектор начинает свой рассказ о Гофмане с натурфилософии. Конечно, мировоззрение сказочника и музыканта питалось еще и интересом к алхимии, розенкрейцерству, кабалистике, лейбницевской монадологии, но натурфилософское учение и «животный магнетизм» были до определенных пор основополагающими. Без этого невозможно до конца понять многие его сказки.
Слабые глаза, украденная душа
Причина всех болезней, учил старший современник писателя, врач Фридрих Месмер, — нарушение «флюида», энергетического баланса в организме. Лечить — значит, возвращать внутренний покой, способность жить в гармонии с природой и ее персонифицированными силами — животными, насекомыми, растениями, минералами, которые, как в «Повелителе блох» и «Золотом горшке», иногда оказываются мистической сущностью людей. Ведь социальный мир у Гофмана не противопоставлен магическому, это его продолжение...
О нарушении «рецептуры» и сбое связей человека с одухотворенной природой одна из самых страшных сказок — «Песочный человек». Демон, спускающийся по ночам с Луны и сыплющий непослушным детям песок в глаза, был излюбленной страшилкой немецких нянюшек в позапрошлом веке. Вот и Натанаэля «успокаивают» тем же манером, добавляя, что к особо неугомонным Песочный человек приводит своих «малышей», уродливых птиц с крючковатыми клювами, которые забирают детей на Луну и выклевывают им глаза. Мальчик не перечит няньке, но стоит ему немного подрасти, как в гости к отцу начинает захаживать некий Коппелиус, адвокат и крайне неприятный тип. Какой хороший материал, замечает он, ощупывая ребенка, какие глаза, старик постарался на славу...
«Эта сказка — предостережение против диктата просветительского разума, возомнившего себя окончательной истиной, — поясняет филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ Андрей Аствацатуров. — Коппелиус, мастеривший живую куклу и тем самым намеревавшийся сымитировать акт творения, — персонификация дьявола. По мере развития сюжета он даже меняет обличья, появляется под именем итальянского продавца оптики Джузеппе Копполы. Дело в том, что в начале XIX века в Германии наблюдался подъем интереса к механике. Эпоха просвещения развивала науку, и ее достижения были настолько убедительными, что создать искусственного человека представлялось делом недалекого будущего. Гофман усматривает в этих дерзких планах проявление гордыни и даже адской одержимости, которая приносит в сказке плоды — демоническую куклу Олимпию, связанную с вампирами и ожившими мертвецами. Именно так воспринимались романтиками «умные» механизмы: мертвое, притворяющееся живым».
Кукла, как мы помним, вышла красивой и правдоподобной: благовоспитанная белокурая девица, играющая на клавикордах, с улыбкой подающая кофе и немногословная: все «ох» и «ах». Натанаэля угораздило влюбиться, но, по мере укрепления нежного чувства, его покидают жизненные силы, слабеют мышцы, тускнеют глаза, а пустые зрачки Олимпии наполняются светом. В этом и заключается задумка дьявола — проще всего украсть душу, похитив ее отражение.
Сюжет заканчивается тем, что Олимпию демонтируют, герой сходит с ума и сбрасывается с башни. Позже Фрейд, а за ним Лакан и Филипп Лаку-Лабарт на примере этой новеллы станут развивать теорию о принадлежности любого искусства полю жуткого. Красивые вещички нас по-настоящему не трогают, переворачивает сознание только то, что представляет собой некий мимесис, удвоение реальности, прекрасное и пугающее одновременно, а если говорить конкретнее, то в живописи и скульптуре мы имеем дело с объектом «undead» — «немертвым», но и не живым. Литературоведы нашли в этой работе открытие другого рода: Гофман впервые описал безумие не с безопасной территории стороннего наблюдателя, как это много раз делали до него, а изнутри: погружаясь в текст, читатель поддается бесовским чарам и видит химеры вместе с Натанаэлем.
О пользе раздвоения личности
Готический роман «Эликсиры сатаны» — тут мы имеем дело с так называемым «черным» Гофманом — иногда рекомендуют вместо учебников по введению в психоанализ: писатель отчасти предвосхитил Юнга, обозначив формулировку глубинных структур личности Персоны и Тени, попутно начертав грань между подлинными чувствами и поверхностными: увлеченностью и «чародейством», любовью и страстями. Двойственность человеческой природы, а Гофман обращался к этой теме неоднократно — и всерьез, и полушутя («Принцесса Брамбилла», «Золотой горшок», «Крошка Цахес»), в этом произведении представлена фигурами двух близнецов: монаха Медарда и графа Викторина. «Я» Медарда, с одной стороны, материализуется в образе Викторина, с другой — является продуктом собственного сознания. «Я тот, за кого меня принимают, а принимают меня не за меня самого; непостижимая загадка: я — уже не я», — говорит он. Само появление двойника он иногда осознает как порождение возбужденного воображения», — пишет исследователь творчества Гофмана Алла Ботникова. Тень вселяется в монаха, заставляя его читать будоражащие толпу проповеди, речь в них идет вроде бы о Боге, но на самом деле он говорит о лукавом, призывая предавать, совершать преступления.
«Хронический дуализм», определял это состояние Гофман, «то странное помешательство, когда человеческое «я» раздваивается, отчего личность, как таковая, распадается».
Неудивительно, что тема двойничества захватила того, чье творческое наследие позже также назовут предтечей психоанализа и экзистенциализма. Дебютировавший как «новый Гоголь» с романом «Бедные люди», свой следующий текст — им был, конечно, «Двойник» — Федор Михайлович писал под влиянием немецкого романтика. Подобно Медарду и Викторину, Голядкин-старший и Голядкин-младший — две ипостаси одной личности. Как Цахес присваивает себе таланты окружающих, замещая их на службе и в любви, так и Голядкину-младшему достается все, о чем мечтает старший. Даже претендуя на руку Клары Олсуфьевны, герой стремится выйти за пределы уготованной ему социальной участи. Схожая честолюбивая мечта раздваивает сознание Джильо Фавы, зажигая в нем любовь к сказочной принцессе Брамбилле...
Русский Джиннистан господина капельмейстера
Позже «хронический дуализм» уйдет в поле глубокого психологического подполья (Раскольников и Свидригайлов, Иван Карамазов и Смердяков), а образ мечтателя, эдакого студента Ансельма из «Золотого горшка» появится в «Белых ночах», «Слабом сердце», «Неточке Незвановой».
«Что за истинный, зрелый юмор, какая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты, и рядом — какая жажда красоты, какой светлый идеал!» — напишет русский классик о своем немецком учителе. Страстный его поклонник, прочитавший всего Гофмана — «и русского, и немецкого», к семнадцати годам Достоевский окажется на распутье русской гофманианы.
Пушкин, Одоевский, Гоголь (магический мир в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — почти что Атлантида или Джиннистан, а художник Пискарев в «Невском проспекте» переживает романтический конфликт столкновения мечтателя с действительностью) останутся в прошлом, Булгаков, Ремизов, Кузмин, Ахматова и Пастернак — явления довольно отдаленного будущего...
О нем вспоминали и в трагические моменты: «Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?!» — писал Маяковский, обращаясь к Лиле Брик в поэме «Флейта-позвоночник». Он, как дантовский Вергилий, скрашивал самые унылые дороги. «Вечерней порою / Сгущается мгла, / Пусть Гофман со мною /Дойдет до угла» — это уже Анна Ахматова. Обыгрывали и переосмысливали его гротескность. «Но царица для потехи /В руки скипетр брала / И колола им орехи» — строки Даниила Хармса заставляют вспомнить королеву крыс, которая мешала скипетром фарш для своей любимой колбасы. «Есть писатели, которые вошли в плоть и кровь», — говорят современные гофманисты.
Унылые ли пустоши под низким северным небом Восточной Пруссии породили в немецком мистике узнаваемое мироощущение «маленького человека», зябнущего без шинели? Или русскому уму соблазнительна идея сбежать от обыденности, как от неласковой мачехи, в мир феерических грез? А может быть, нас увлекает многоцветный гофмановский элизиум, где магическое дружит со сказочным и все это вплетается в мир людей — осязаемо, зримо, пожалуй, даже «через голову» литературы. А еще у Гофмана пленительно мало определенности: сумасшествие — и печальный финал, и высший дар, просветление избранных (что обыграно Булгаковым в «Мастере и Маргарите»), природа и целительна, и коварна — помимо возвращающего к истокам и дарующего магическое бытие брака, как у Ансельма с Серпентиной, есть и «злой принцип» (das boese Prinzip) беспорядка натуры, одним из проявлений которого является ложное очеловечивание животных — «Житейские воззрения кота Мурра», «Сообщение о новейших судьбах пса Берганца». Нет у Гофмана и типичной для романтиков антитезы — возвышенные непонятые художники и пошлые мещане. «Как высший судия, я поделил весь род людской на две неравные части. Одна состоит только из хороших людей, но плохих музыкантов или вовсе не музыкантов, другая же — из истинных музыкантов. Но никто из них не будет осужден, наоборот, всех ожидает блаженство, только на различный лад». Предтеча Лавкрафта и Эдгара По, он не умел быть по-настоящему безнадежным. Злодеев нет — просто двойники временно прокляты (метафизически их спасет красавица Аврелия), крысы заколдованы, а у коппелиусов все равно ничего не выйдет.


