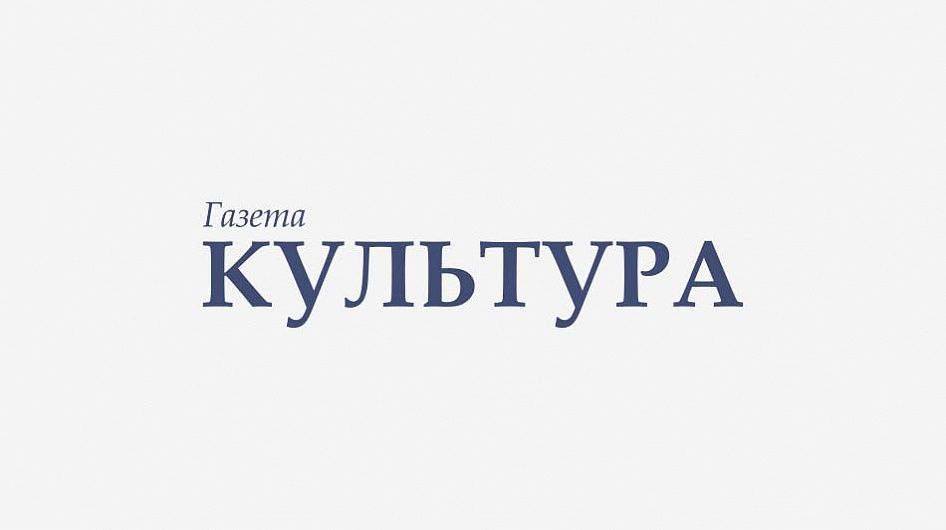
Не тихий дон
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса Сааведры продолжает отмечать 400-летие. Один из самых грандиозных и дискуссионных образов в мировой литературе сразу же полюбился публике. Над похождениями безумного рыцаря и его пройдохи-оруженосца хохотала вся просвещенная Европа.
О старой кляче и жгучих слезах мира
Плутовской, рыцарский, глубоко психологический и совершенно сюрреалистический текст задал тон европейской романистике, общественной и философской мысли на столетия вперед. Байрон и Жуковский, Пушкин и Гейне, Достоевский и Томас Манн, Булгаков и Набоков, Горький и Борхес, Ортега-и-Гассет и Грэм Грин — передовые умы спорили о Дон Кихоте. Амплитуда оценок колебалась от безоговорочного поклонения до полного неприятия. В ламанчском безумце видели воплощение жертвенной добродетели и зовущего на баррикады лжепророка. Неслыханный чудодей, напяливший прадедушкины доспехи и оседлавший старую клячу, со временем обрел и внелитературное бытие: термин «кихотизм», как «гамлетизм», «донжуанство», «фаустовский дух» встречается во всех европейских языках.
Смысловая притча, мифологема, через которую люди воссоздают собственные жизненные ситуации, или «изумительно обработанные в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких жгучих слез мира сего»? Вечно нуждавшийся гений дон Мигель, переживший три тюремных заключения, потерявший левую руку в схватке с турками, как он позже напишет «к вящей славе правой», отрицал сколько-нибудь серьезные замыслы. «У меня иного желания и не было, кроме того, чтобы внушить отвращение к вымышленным и нелепым историям, описываемым в рыцарских романах; и вот <...> романы эти уже пошатнулись и, вне всякого сомнения, скоро падут окончательно». Спорить трудно: для читателей первый том был совершенно законченным произведением, как, скорее всего, и для самого Сервантеса, иначе не имело бы смысла слагать эпитафии герою в конце книги.
Полно, сеньоры!
Поставить точку не удалось: в 1614-м вдруг вышел лже-«Дон Кихот». Некто Алонсо Фернандес де Авельянеда, якобы родом из Тордесильяса, — писатель явно профессиональный, острый (псевдоним так и не удалось разгадать, хотя были предположения, что за ним скрывались Тирсо де Молина или Лопе де Вега) принялся развенчивать рыцарские романы еще с большим рвением: его Дон Кихот окончательно сходит с ума, Санчо погрязает в пороках и бросает своего господина, а сам рыцарь с трудом выбирается из психушки, взяв в оруженосцы переодетую беременную девицу... Казалось бы, так еще смешнее. Но Сервантес пришел в негодование: «Писака, что отважился... грубым своим и плохо заостренным страусовым пером описать подвиги доблестного моего рыцаря!» Решив, что не его, борзописца, «окоченевшего ума» это дело, сам взялся за второй том. И сразу же изменил название. «Хитроумный идальго» превратился в «кабальеро» — титул более высокий, благородный. Очередная насмешка? Но чем старательнее издевался Авельянеда, тем грустнее и лиричнее становилась интонация Сервантеса. Сбежавший из-под зоркого присмотра опекунов и кухарок, Дон Кихот начинает постепенно прозревать: спускаясь в заколдованную пещеру или приняв кукольный театр за вражеское войско, признает, что и в самом деле видит химеры... «Бедный хлебопашец» Санчо, не потерявший надежды стать губернатором острова, и бакалавр Самсон пытаются вернуть патрона в прежнее состояние: то, завидев возвращающихся с поля усталых крестьянок, уверяют, что среди них заколдованная злым волшебником Дульсинея Тобосская, то устраивают поединок с другим странствующим рыцарем — им переоделся бакалавр. Однако все напрасно. «Полно, сеньоры, — отвечает своим спутникам «повелитель печальных» в последней главе второго тома, — новым птицам на старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров, я был Дон Кихотом Ламанчским, а ныне, повторяю, я — Алонсо Кихано Добрый».
«Старик, солдат, идальго и бедняк», а именно так рекомендовали Сервантеса испанцы, замечал невзначай, что «шутники были так же безумны, как и те, над кем они шутки шутили...». Задумавший сатиру на рыцарские романы, писатель вышел за рамки жанра, наделив героя и положительными чертами, и отрицательными, а главное, даровав ему «двойную жизнь» — в бреду и в здравии.
Нас возвышающий обман?
«Малый-то недалек! — говорил я. Но странное дело, на всех путях жизни меня преследовали тени худощавого рыцаря и его жирного оруженосца, в особенности когда я достигал рокового перепутья», — отзывался Генрих Гейне. Лорд Байрон, считавший книгу «самой печальной из всех повестей и тем более печальной, поскольку заставляет нас смеяться», полагал, что Сервантес причинил своей родине большой вред, подорвав у испанцев понятие о чести.
«Перо гения всегда более велико, нежели он сам», и потому, «сам того не сознавая, написал величайшую сатиру на человеческую восторженность и одушевление», — парировал Гейне.
Склонные к рационализму европейцы Нового времени толковали роман, исходя из противопоставления образов идальго и его оруженосца.
Воплощение «идеального энтузиазма» и «положительного ума», «вечный» контраст между мечтой и материей, альтруизмом и «грубым здравым смыслом». Подобные версии высказывал литературовед-кантианец Бутервек, а вслед за ним Шеллинг, Вордсворт, Гюго.
В Россию роман попал лишь в 1716-м, когда из путешествия по Европе царь Петр привозит гравюру Шарля-Антуана Куапеля и свернутое в свиток издание на французском. Его переведут только в 1769-м, в золотой век Екатерины, а к концу XVIII столетия двухтомник Сервантеса займет свое почетное место чуть не в каждой усадебной библиотеке. Россия не ограничится анализом «Дон Кихота» — им будут жить. В «худощавом человеке лет пятидесяти» увидят пророка или лжепророка, искушение и надежду на разрешение всех проблем. Примеров — множество. Аполлон Григорьев подчеркивал душевное родство с гишпанцем в поэме «Venezia la bella»: «Но было в этом донкихотстве диком / Не самолюбье пошлое одно. / Кто слезы лить способен о великом, / Чье сердце жаждой истины полно». Карамзин, уподобляя себя безумному идальго, замечает в одном из писем: «Назови меня Дон Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею так страстно, как я люблю — человечество!»
В бакунинской «Исповеди», написанной в Петропавловской крепости и адресованной императору Николаю I, идеолог социального анархизма даже пытается объясниться: «Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало. Во мне было всегда много донкихотства: не только политического, но и в частной жизни; я не мог равнодушно смотреть на несправедливость, не говоря уж о решительном утеснении; вмешивался, часто без всякого призвания и права и не дав себе времени обдумать, в чужие дела...»
Не менее распространенным определением донкихотства было никчемное геройство. Державин, как известно, употреблял глагол «донкишотствовать» в значении «сумасбродствовать» (ода «Фелица»). Белинский видел в красивом мифе утрату чувства действительности: при ощущении непогрешимости это идеальная почва для радикальных протестов. Добролюбов писал о безумии мудрости, противопоставлял идеализм трезвому подходу к жизни.
Об опасности искушения донкихотством предупреждал и Александр Сергеевич Пушкин. В статье «Александр Радищев» он именует фигуранта то рыцарем, то просто фанатиком.
«Если подумаем, какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, то преступление Радищева покажется действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! <...> Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственною книгою; но мы не можем не признать в нем преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию».
В ожидании Золотого века
У кихотизма в России, конечно же, были особые предпосылки — сказки об Иванушке-дурачке, юродство, странничество, страстотерпчество, как «важная особенность русской святости», — об этом неоднократно писали исследователи, в частности Юрий Айхенвальд. Западная трактовка романа, построенная на сравнении, борьбе и дополнении противоположностей, породила множество психологических интерпретаций, подчас самых невероятных. В соционике, например, Дон Кихотами именуют людей лидерского склада, способных мыслить «проектно» и берущихся за выполнение самых смелых задач — не мечтателей-прожектеров, а самых настоящих прагматиков, не любящих размениваться на лирику и пустяки.
Разумеется, здесь мы имеем дело со внероманным бытием персонажа, который, по словам директора Института Сервантеса Абеля Мурсии Сориано, давно уже живет своей жизнью: «Где-то он — отважный защитник идеалов, где-то бунтарь, иногда — просто безумец, но чаще то, другое и третье сразу. Но одна из трогательных черт романа — это его открытость к новым прочтениям, любой может находить в книге разные смыслы».
«Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения, — писал о «Дон Кихоте» Достоевский. — Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, самая горькая ирония, которую только мог выразить человек».
И еще раз об этом же: «Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну»...
Взять на Страшный суд испанский роман? Да еще и сатирический — о безумце, в карнавальном хронотопе которого шалманы превращались в дворцы, шлюхи в прекрасных дам?.. Делая эти заявления, Федор Михайлович не уподоблялся ламанчскому скитальцу, скорее всего, он имел в виду одну из культурологических «разгадок» этого поистине мистерийного сочинения.
Возрождение, как и всякая переходная эпоха, было временем крайностей. Наряду с натуралистическим изображением мира присутствовал и другой полюс — эстетизм, корни которого — в модном тогда среди творческой элиты неоплатонизме. Одним из любимых сюжетов был миф о Золотом веке человечества, гармоничном, счастливом и безгрешном бытии людей на земле. Но, и в этом заключалась страшная иллюзия для религиозного сознания тех лет, счастливое бытие человечества невозможно без искупления первородного греха. Ведь после грехопадения история не знала безоблачных периодов, и мы не в силах это изменить. Поэтому сумасшедший идальго на старой кляче бросается творить добро, но всем приносит неприятности, за что регулярно бывает бит: погонщиками, купцами, крестьянами, кабацкой публикой. Еще одно очень серьезное искушение связано даже не с мечтой-утопией, а с Царствием Божиим. Как задолго до Возрождения предостерегал Фома Аквинский, Бог, который должен править миром, правит и сейчас. А человек не должен ничего менять, лишь подчиниться существующей природе вещей...


