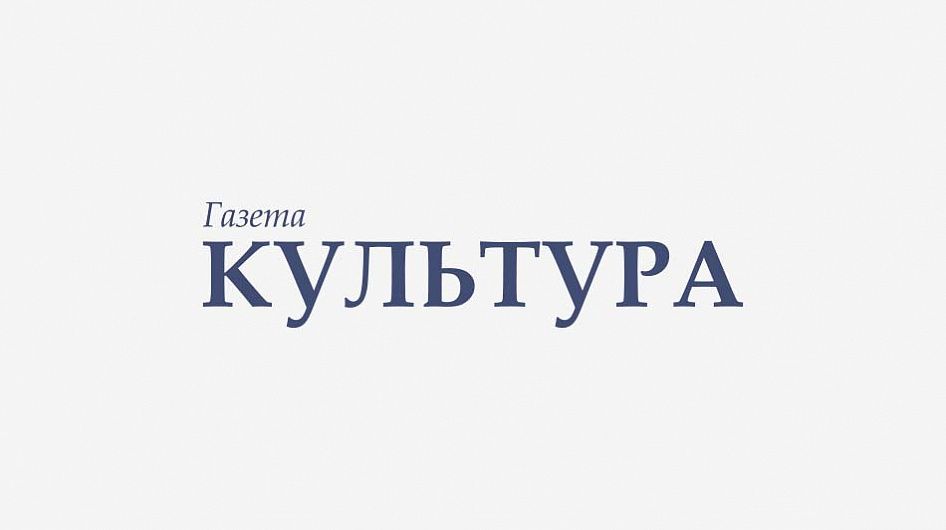
Главный урок Толстого
Фраза «ушла эпоха» давно затерта и потеряла всякий смысл: она применяется везде и всегда — вплоть до иллюстрации к увольнению мелкого чиновника заштатного ведомства. Но однажды заезженные слова обрели плоть: 10 ноября 1910 года из Ясной Поляны буквально сбежал Лев Николаевич Толстой. Вместе с автором «Войны и мира» ушел в прошлое XIX век. Спустя четыре года грянет Первая мировая, а там и революция.
Жить великому писателю оставалось мало: уже через десять дней после побега Толстой умрет, так и не объяснив никому смысла и цели последнего поступка. Его слава к тому времени была настолько велика, что представить себе более громкое событие трудно. Этой смерти ожидали — граф был не молод, но она свалилась на тогдашнее российское общество, словно первый снег.
Впрочем, мир скоро оправился. Посмертный путь Льва Николаевича оказался проще и длиннее жизненного. Школьники десятилетиями изнывали под гнетом четырех томов «Войны и мира», студенты равнодушно зевали над судьбой Катюши Масловой, западные интеллектуалы с удовольствием разбирали «Анну Каренину» — у каждого был свой Толстой.
А потом грянул гром. Литературовед Павел Басинский к столетию ухода графа из Ясной Поляны написал блестящую работу «Лев Толстой. Бегство из рая», где снова ставший живым классик был выписан с изумительным тщанием и совершенно невероятной для нынешних времен деликатностью.
Напомним, что в 90-е автора «Войны и мира» пробовали разоблачить, но без подсказки никто не вспомнит, кто были эти авторы и что именно они предъявили покойному писателю. Басинский обошелся без кавалерийских наскоков, однако не стал и лить елей: его Лев Толстой — сложная натура, человек огромного дара, большого ума и чудовищной внутренней силы. Боренья нашего главного писателя, справедливо отмечает литературовед, прошли в основном с самим собой, а вовсе не только с церковью или государством. Первейшим противником Льва Николаевича был он сам — эта мысль созвучна духу нашего времени, она очень льстит нашей расслабленности. Не каждый ведь сможет написать «Крейцерову сонату», зато поковыряться в себе любой блогер из Мытищ умеет…
Бегство Толстого в этом контексте кажется чем-то очень домашним, почти родным и, конечно, все мы графу ужасно сочувствуем. Такой старик! Глыба! Но, к сожалению, душевными терзаниями главного героя (их-то и примеряют на себя все, кому не лень) описываемый сюжет не исчерпывается.
Чтобы понять смысл и логику произошедшего с графом, попытаться увидеть последствия его шага, стоит обратиться к роману Достоевского «Идиот», где милейший, трогательный, безусловно прекрасный князь Мышкин назван Львом Николаевичем совсем не случайно.
Параллель между Толстым и несчастным эпилептиком, России не знающим, не слишком очевидна, она многих вводит в заблуждение: мол, совсем же не похожи. Но стоит вслушаться в то, что говорит князь, и почувствовать, что увидел разночинец Достоевский в нашем графе.
Есть у Мышкина в романе знаменательные слова: «Возвращаясь сюда, в Петербург, я дал себе слово непременно увидеть наших первых людей, старших, исконных, к которым сам принадлежу, между которыми сам из первых по роду. Ведь я теперь с такими же князьями, как сам, сижу, ведь так? Я хотел вас узнать, и это было надо; очень, очень надо!.. Я всегда слышал про вас слишком много дурного, больше, чем хорошего, о мелочности и исключительности ваших интересов, об отсталости, о мелкой образованности, о смешных привычках — о, ведь так много о вас пишут и говорят! Я с любопытством шел сюда сегодня, со смятением: мне надо было видеть самому и лично убедиться: действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится, отжил свое время, иссяк исконною жизнью и только способен умереть, но все еще в мелкой, завистливой борьбе с людьми... будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает?»
Выводы князь делает оптимистичные. Есть еще надежда, хотя, кажется, что все уже пропало. «Я и прежде не верил этому мнению вполне, потому что у нас и сословия-то высшего никогда не бывало, разве придворное, по мундиру, или... по случаю, а теперь уж и совсем исчезло, ведь так, ведь так?» — совершенно серьезно спрашивает Мышкин.
Лев Николаевич у Достоевского приезжает в Петербург вовсе не для того, чтобы метаться между Аглаей Епанчиной и Настасьей Филипповной. Его цель — понять, кто придет на смену «отцам», главным по крови, найдутся ли люди, первые по духу, рыцари, воины, поэты. Старое дворянство уйдет, и Достоевский предчувствует, к какой катастрофе это может привести. На пустое место, где и так, выходит, ничего не было, метят смердяковы.
Мышкин — человек, имеющий право приказывать, говорить «Нет» и не терять веры даже при взгляде на страшную картину Гольбейна. А «Идиот» — предостережение Толстому: можете и Россию спасти, лишь бы в твердости не потерять и к праву крови воспитать право духа, но пропадете ни за что, польстившись на юбку, славу или учительство. Граф, впрочем, продал свое первородство за очень дорогую чечевичную похлебку.
Он, первый среди равных, наследник великой традиции — и дворянской, и литературной — так долго разбирался в себе, что пропустил тот поворот русской истории, когда можно было на новых основаниях пересобрать то самое «высшее сословие», которого, по словам Достоевского, никогда не было. Лев Толстой уже в «Войне и мире» подходит к ответу на вопрос о том, каким должен быть новый «верхний слой русских людей». Пьер Безухов и Платон Каратаев — вот что могло вырасти из России, если бы граф осмелился пройти свой путь до конца. Константин Левин — еще один шаг в том же направлении. Но последний роман Толстой пишет уже наспех, добывая денег для сектантов, а после все летит под откос.
Граф бросает начатое, идет учить крестьянских детей, и это оказывается, во-первых, делом легким, а во-вторых, снимает с него всякую ответственность за то, что будет происходить со страной дальше. Так и выглядела на рубеже позапрошлого и прошлого веков чечевичная похлебка.
Иногда кажется, что в этой миске горячего варева нет ничего плохого. Наоборот. Она согреет, ею можно накормить семью, похвастаться перед соседями. А первородство на хлеб не намажешь — будешь потом слезы лить по вишневому саду, да что толку. Топор — дело такое, против лома нет приема.
А уже чуть позже в подвалах будут добивать лопахиных: на топор найдется винтовка, на винтовку — пулемет. Все дело в том, что только начни ломать — не остановишься. А ломали живо и споро, почему бы не ломать, раз сам граф Толстой плюнул в них всех и попрал закон. Если ему, наследнику великого рода, можно, то отчего бы нам-то нельзя? Если нет ничего ценного, кроме наших метаний, так кого теперь жалеть?
Толстой убедителен в том, что отречься можно вообще от всего: от дома и дара, от любви и веры — все стоит подвергнуть беспощадной ревизии. Бегство великого графа — это прыжок в бездну с похлебкой в старческих руках.
Есть «личная жизнь», то есть — буквально — жизнь личности, но есть и то, что Борис Пастернак называл «почва и судьба». От почвы Лев Николаевич уходит, с судьбой не справляется, личную жизнь устраивает так, что теперь все и разговоры — о том, как он с любезной супругой ссорился перед уходом из Ясной Поляны.


