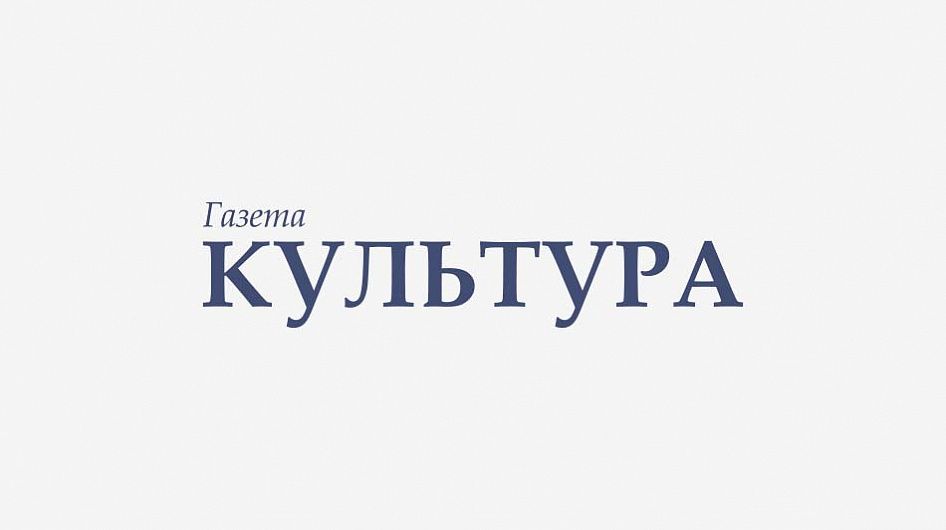
Учитель тишины
Нобелевского лауреата 2015 года Светлану Алексиевич, получившую за свои весьма сомнительные книги одну из самых известных литературных наград, бесконечно сравнивают с остальными русскими писателями, удостоенными этой премии. Чаще — с Александром Солженицыным (он тоже не любил СССР), реже — с Михаилом Шолоховым (он, напротив, был, как сказали бы сейчас, «ватник»). Иван Бунин попал в список неловких сравнений мягкого с фиолетовым как «матерый антисоветчик», «эмигрант», «борец с режимом».
К великому счастью, Бунин — чей юбилей мы празднуем — куда больше всех этих определений. Родившийся 22 октября 1870-го он остается главным проводником в мир, который так трудно описать и где нам приходится жить. Весь его путь — человеческий и творческий — был посвящен завершению русской прозаической традиции, что в начале XX века казалась полностью исчерпанной. Был Чехов с растерянно бродящими из рассказа в рассказ героями, был Леонид Андреев с «Красным смехом», объясняющим, как можно говорить по-русски, если уйти от толстовской романной инерции. Были и символисты, придумавшие новую реальность поверх старой, был и Хлебников, сконструировавший на коленке чудесный и хрупкий язык. Были, наконец, лихие авторы 1920-х, умевшие писать интересно, занимательно, так, чтобы читатель ахнул. Одни новаторы, не протолкнуться.
Бунин же стоял на своем, всегда повторяя одно и то же: его «Легкое дыхание», его «Жизнь Арсеньева» — как медленно набирающий ход старинный поезд, который просто и безыскусно тянется из пункта А в пункт Б. Они существуют, эти пункты, поезд вам не снится, он пахнет углем, деревом, кожей и стучит на стыках так, что дамы вынуждены придерживать шляпы. И шляпы все те же, и жизнь, кажется, все та же. В 1940-м, когда Вторая мировая уже началась, он пишет так, будто бы и Первой еще не было. В рассказе «В Париже», одном из лучших в «Темных аллеях», безо всякой войны столько подлинной боли, что на ее описание Бунину хватает трех предложений: «Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде».
А разве нужно больше? Разве не все, что мы можем почувствовать — лишь несколько простых слов?.. Там, где Толстой широко выходил на шести страницах спокойного осуждения, Достоевскому нужен был скандал, а Тургеневу — медленная русская природа, Бунину хватает мольбы о пощаде. Все остальное — в том числе и психологическое объяснение — он безжалостно убрал, чтобы дать голос домам, улицам, снегу, движению рук или тонкому шраму, давней шинели на красной подкладке.
Бунин видит в русской литературе главное — почтительное внимание к человеку, оставленному теперь наедине с веком. Ничего нет. Страна, семья, дом, дорожки к могилам, чай с кислым крыжовником — все растоптано, выжжено, уничтожено, и автор не жалеет о былом, не тоскует о прошлом, а делает из несбывшегося единственную среду обитания для героев все еще русской литературы, которым некуда более идти.
«Чистый понедельник» у Булгакова получился бы почти детективом, «Руся» у Зощенко стала бы фельетоном, Андрей Платонов пристроил бы «Пароход «Саратов» под рассказ о торжестве машин. Бунин — злой, едкий, жестокий — тактичен, как будто собирает в дом призрения всех, кому отказано от крова. О, они гордецы, они умники, милостей им не надо. Им нужно легкое покачивание головой от равного: да, сударь, все понимаю, как не понять, но я не лезу, у меня нет никаких выводов, а вы говорите, говорите, разглядела, значит, как они не голосами, а «крюками» поют, очень интересно. Никакой жалости, только понимание.
Достоевский своего героя спасал, Лев Толстой — учил, а Бунин просто с ним беседует. Что еще можно делать с человеком в 1940-м году?
Потому-то Бунин так вызывающе современен. Мы ведь живем все в тех же декорациях. Учить и спасать нас некому, а вот кто бы послушал, безо всех этих оценок и мельтешения «а вот я, а вот я». Все мы сегодня — сплошной бунинский герой: хотя есть теперь интернет и билеты на самолет, а остального нет по-прежнему.
Там, где нужна тишина, нет лучшего автора, чем Бунин, который так хорошо молчит, что только ему мы и могли бы сказать что-то действительно важное.
Я думаю, важное — о нас. Бунин оставляет словно бы за пределами текста очень верную и глубокую мысль о том, что человек не изменится никогда. Дай ему Париж, дай ему Саратов, весь мир кинь к его ногам, он случайно потеряет все, схватит тяжелым движением страшное летнее пальто и зарыдает. Нет, нет, ничего еще не решено, ничего не ясно, кроме того, что бунинским героям, которых начинали писать еще Пушкин с Гоголем, есть, куда податься, есть, где быть живыми. Пока Бунин с нами, двери открыты, можно прийти.


