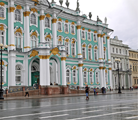Ялтинский синдром: 80 лет назад проходила конференция по устройству послевоенного миропорядка
07.02.2025

Материал опубликован в январском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».
Топоним «Ялта» в массовом сознании ассоциируется не только с прекрасным летним отдыхом и русскими классиками (Чехов, Горький, Федор Васильев), но и с состоявшимся восемьдесят лет назад ключевым историко-политическим событием. Прошедшая здесь 4–11 февраля 1945-го конференция лидеров «Большой тройки» стран-победителей во Второй мировой войне — Сталина, Рузвельта и Черчилля привела к их второй после совещания в Тегеране (1943) встрече, предваряя послевоенные соглашения в Потсдаме. В Ливадийском дворце во многом предопределялось послевоенное устройство мира, были намечены зоны влияния в Европе, согласована наднациональная структура ООН. Ялтинские договоренности вспоминают ныне по-разному: с пиететом, со скрежетом зубовным, как нелепый анахронизм, который нужно поскорее забыть...
Связанное с Ялтой-45 мифотворчество распространилось на Западе почти сразу же после завершения конференции, особенно после неожиданной смерти Рузвельта в апреле сорок пятого. Новый президент США Трумэн был очень недоволен ялтинскими соглашениями, в его окружении начали трактовать их так: больной, плохо соображавший Рузвельт отдал Сталину всю Восточную Европу. Про Черчилля его недруги запустили слух: тот, мол, дал себя переиграть, поскольку не просыхал, дегустировал с утра до вечера крепкие напитки, которыми его снабдил «дядюшка Джо»...
В последнем утверждении доля правды была. Британский премьер действительно с большим удовольствием потреблял в Ялте выдержанные армянские и грузинские коньяки. Однако при этом не размякал, порой спорил со Сталиным на повышенных тонах, как и американский лидер, отстаивавший интересы Соединенных Штатов настойчиво и последовательно. Успешный и даже в некотором смысле триумфальный для СССР итог конференции был обусловлен, во-первых, военными успехами Красной армии, во-вторых, особой харизмой советского руководителя, в третьих, досконально продуманной и с размахом организованной встречей в Крыму.
За выбор Ялты нашей стороне пришлось побороться. Известно, что Черчилль предлагал для встречи Шотландию, но Сталин ее отверг: «Не могу ехать туда, где мужчины ходят в юбках». Так же были отклонены варианты Рузвельта: Рим, Александрия, Иерусалим, Афины, Мальта. Союзникам пришлось согласиться на Крым, освобождение которого произошло за восемь месяцев до исторической встречи. Главе британского правительства наш генсек пообещал организовать поездку в Балаклаву, где во время Крымской войны в составе бригады легкой кавалерии погиб предок Черчилля лорд Мальборо. «Бульдог ее Величества», когда-то начинавший как журналист, предложил дать название трехсторонней встрече «Аргонавт», имея в виду «дальнюю и опасную дорогу за золотым руном».
В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года с аэродрома Лука на Мальте взлетели в сопровождении истребителей транспортные самолеты, призванные доставить в Крым около 700 представителей американской и английской делегаций. Некоторые борты, пролетая неподалеку от Кипра, подверглись обстрелу со стороны то ли немцев, то ли турок.
Полету на Крымский полуостров предшествовало рандеву первых лиц США и Великобритании: требовалось заранее согласовать позиции. На совместном визите в СССР настаивал хитрый британский премьер, который раньше, еще в октябре 1944-го, отдельно от американского президента слетал в Москву на переговоры со Сталиным. В Ялте предстоял великий торг, а «бульдог» в дележе «золотого руна» собирался перехитрить всех. У хозяина Белого дома имелись свои глобальные планы, в которые, кстати, сохранение Британской империи не входило, не говоря уже про ее усиление. По большому счету, каждый участник исторической конференции играл против остальных. Прекрасно знавший об этих нюансах Сталин противоречия англосаксов смог использовать в полной мере.
Трехсторонняя «шахматная партия» началась с подготовки саммита, порученной Лаврентию Берии, и тот со своей миссией справился блестяще. В разоренной гитлеровцами Ялте, из дворцов которой немцы вывезли практически все, что можно было украсть, получилось устроить для гостей поистине царский прием с высочайшим уровнем безопасности. Занявшие два месяца приготовления велись как настоящая спецоперация. Стройматериалы, оборудование, продукты, посуду, ковры, мебель спешно везли со всей страны. Всего на полуостров за это время прибыло около 1500 вагонов! Организаторы задействовали центральные столичные рестораны, Гохран, откуда изъяли серебряные кубки и блюда.
Впоследствии количества потребленных делегациями продовольствия и спиртных напитков впечатлили: 500 килограммов паюсной икры, столько же разных сыров и сливочного масла, больше тонны телятины, баранины, птицы, более двух тысяч бутылок коньяку, пяти тысяч бутылок вина, столько же водки... При этом в бериевских особых папках лежали добытые разведкой данные на всех членов иностранных делегаций, а в отношении ключевых персон были аккуратно собраны сведения об их гастрономических, алкогольных, табачных и иных предпочтениях. Все это было элементами Большой игры.
Строители и специалисты сферы обслуживания также прибывали отовсюду. В Ялте и близлежащих городах они возвели несколько электростанций, три АТС. За телефонные (ВЧ) и телеграфные коммуникации между Москвой и Крымом, а также за устранение возможного обледенения проводов отвечали пять рот войск правительственной связи НКВД СССР. Саперы разминировали южную часть Крыма, протралили побережья от морских мин.
Меры безопасности предпринимались поистине экстраординарные. Спокойствие участников конференции обеспечивали дополнительно установленные батареи ПВО и около 300 истребителей (Крым все еще находился в зоне досягаемости немецких бомбардировщиков). На воде дежурили корабли Черноморского флота СССР вместе с судами США и Великобритании. С 20 января 1945 года в прибрежной зоне от Ялты до Симеиза был запрещен выход в море любых рыболовецких судов, включая лодки, а во время конференции все дороги в данном районе перекрывались. Парк вокруг Ливадийского дворца окружили четырехметровым забором, обслуживающий персонал проходил по спецпропускам. Дворцы охраняли несколько полков НКВД — по два кольца охраны, к которым ночью добавлялось третье, со служебными собаками.
В окрестностях усиленно работали сотрудники СМЕРШа. Еще в первой половине января смершевцы выявили и арестовали нескольких оставленных в подполье агентов германской и румынской разведок. После перевербовки были организованы радиоигры с абвером: в частности, до середины февраля передавалась ложная информация об ужасно-нелетных погодных условиях, хотя во время Ялтинской конференции пригревало уже почти весеннее крымское солнце.
Активные восстановительные работы шли с декабря 1944-го и в Одессе (она рассматривалась как запасной вариант для проведения конференции), причем все это делалось открыто, что также дезинформировало противника.
В глобальной партии Сталин разыграл неожиданный дебют: встречать высокопоставленных «аргонавтов» на аэродром в Саки не явился, послав вместо себя Молотова и Вышинского. Для Рузвельта и Черчилля это стало своего рода оплеухой: «дядюшка Джо» ясно показывал, кто здесь главный. Прилетевшие начали было роптать, однако возле трапов их ждали богато накрытые столы: дымящаяся семга, осетрина, икра, вино в хрустальных фужерах, коньяк в рюмках, наполняемых официантами в белых перчатках. Оркестр играл американский и британский гимны. Угощение скрасило долгую и скучную дорогу до побережья по выжженной, разоренной земле. По пути через каждые сто метров стояли солдаты навытяжку, отдавая честь проезжавшим. Это был второй ход: хозяин суров, могуществен, но щедр и гостеприимен. Сдерживать свое недовольство союзникам приходилось еще и по другой причине: перейдя по их просьбе с января в масштабное наступление по всем фронтам, Красная армия спасла союзные части от поражения в Арденнах. К началу Ялтинской конференции советские войска победоносно завершили Висло-Одерскую стратегическую операцию, освободив Польшу и захватив плацдарм на левом берегу Одера, что несомненно являлось сильнейшим аргументом в предстоявших дискуссиях. Англосаксы боялись, что русские могут своими силами закончить войну в Берлине и пойти дальше — вплоть до Бискайского залива.
Тонко, всесторонне продуманным в преддверии переговоров был и выбор резиденций. Американцам отвели самый «главный» и самый вместительный Ливадийский дворец. В апартаментах Рузвельта все, включая ванную, оформили в любимых им голубых тонах. Англичанам предоставили напоминавший средневековые британские замки Воронцовский дворец в Алупке. Советская делегация разместилась в Кореизе, в Юсуповском, самом скромном и «тесном», однако находившемся втрое ближе от места конференции, нежели Воронцовский: поджидая британского премьера, советский вождь имел возможность кое о чем перемолвиться с главным американцем.
Что же обсуждали главы держав в Ливадии? Во-первых, с участием военачальников трех стран были спланированы и согласованы сроки и направления ударов по Германии для ее скорейшей капитуляции. (Варварская ковровая бомбардировка Дрездена авиацией союзников спустя три дня после окончания конференции не согласовывалась, это был ход англосаксов с намеком Сталину: помни, мол, кто хозяин в небе.)
Второй — самой объемной и проблемной — смысловой частью ялтинской встречи стало определение границ и зон влияния в Европе. Какие-то вопросы решались довольно легко, например, те, которые касались денацификации и демилитаризации Германии и зон оккупации, определенных еще в 1944-м. Сталин поначалу не хотел разделять бывший рейх на два государства, не настаивал и на просоветском режиме одной из частей, предпочитая иметь в качестве буфера с Западом большую нейтральную страну по типу Финляндии. При этом твердо настоял на отделении Восточной Пруссии в пользу СССР и Польши.
Также относительно бесконфликтно произошло разделение англосаксонского и советского влияния по странам Восточной и Юго-Восточной Европы. Наиболее азартным торговцем тут выступил Черчилль, пытавшийся делить территории по принципу «я тебе это, а ты мне то». Очерчивая будущий «советский ареал», Сталин действовал не как марксист-ленинец, а как наследник русской имперской политики: требовались дружественные буферные государства с коалиционными демократическими правительствами. Жесткая коммунизация режимов в тех странах произошла позже, с началом холодной войны, когда в мире начали выстраиваться новые военные лагеря.
Конфликтные ноты в дискуссиях «аргонавтов» проявились при обсуждении размеров и характера репараций с побежденной Германии («золотое руно»). Особенный накал вызвал польский вопрос: Черчилль и (в меньшей степени) Рузвельт стремились сохранить на границах СССР в качестве потенциального западного плацдарма Польшу с националистическим «лондонским» правительством Миколайчика. Сталин твердо заявил о том, что для Советского Союза это «вопрос жизни и смерти». Столь же непреклонно глава советской делегации отстаивал границы по линии Керзона — с Западной Украиной и Западной Белоруссией на нашей стороне. Когда британский премьер в запале заявил, что Львов никогда не был русским, советский генсек мгновенно парировал: «Зато Варшава — была», — после чего сэр-пэр прикусил язык. Уступка части Белостокской области и приращение территории Польши на северо-западе за счет немецких земель стали компромиссом.
Рузвельта в целом не особо интересовал советско-британский дележ Европы, гораздо больше волновали дела на Тихом океане и прежде всего противостояние с Японией, а поскольку Сталин сразу же дал обещание вступить в войну на Дальнем Востоке через два-три месяца после капитуляции Германии, американский лидер был в остальном довольно покладист и местами даже подыгрывал «дядюшке Джо». Не возражал и против условия возвращения в состав «красной империи» Курил и Южного Сахалина, утраченных в ходе русско-японской войны 1904–1905 годов. Генсек также требовал вернуть России КВЖД и права на аренду бывших царских владений на берегах Желтого моря, с чем американцам и британцам тоже пришлось согласиться.
«Гуманисты» с разных берегов и континентов давно обвиняют западных участников Ялты-45 в том, что они-де позорно согласились отдать на съедение большевикам советских перемещенных лиц и тех русских, что воевали в составе гитлеровских войск. Однако выдали союзники далеко не всех, многих «ценных» коллаборационистов ожидали на Западе теплый прием и работа в спецслужбах. За исключением таких предателей, как генералы Власов и Краснов, группенфюрер СС атаман Шкуро, далеко не все возвращенные на родину подвергались репрессиям, отправлялись в ГУЛАГ, тем более на виселицу. Большинство угнанных на работы в Германию военнопленных сами хотели вернуться домой. Конечно же, без трагедий отдельных людей и целых групп не обошлось (как это случилось с белыми казаками в австрийском Лиенце), и тем не менее вернуть на родину соотечественников советский вождь хотел не ради мести, а потому, что лежавшей в руинах стране позарез нужны были рабочие руки.
Еще одной большой задачей собравшихся в Ялте лидеров стало выстраивание принципов новой межгосударственной структуры — Организации Объединенных Наций. Характерно, что изначально наиболее значимым в ее названии было пропущенное, но подразумеваемое слово «победивших». Причем список победителей долго оставался открытым: страны, объявлявшие войну государствам гитлеровской «Оси» (даже на ее последнем издыхании), допускались в качестве бенефициаров к участию в наднациональных делах. Тем самым лидеры антигитлеровской коалиции хотели ускорить крушение Третьего рейха. Протолкнуть в этот список все 15 советских республик Сталину не удалось, лишь Украина и Белоруссия (помимо СССР) вошли в ООН как отдельные члены. Максимальное представительство Союзу ССР, по мысли «вождя народов», требовалось не только для приумножения голосов, но и для возможности гибкого маневра по отдельным вопросам.
Зато нашему руководителю удалось настоять на принципе единогласия великих держав — постоянных, обладающих правом вето членов Совета Безопасности. Против этой нормы вначале выступал Рузвельт, желавший, чтобы решения ООН принимались простым большинством, однако Сталин смог переубедить американца. В последние десятилетия конструкция Совбеза вызывает особую ненависть западных борцов с Россией.
Что ж, принцип единогласия ведущих держав, между коими уже давно нет никакого взаимопонимания, делает решения главной международной организации во многом декларативными, однако то же обстоятельство мешает выстроить систему пресловутого мирового правительства, которое бы определяло судьбы всего человечества «на законных основаниях». Сталин видел подобные перспективы еще в феврале сорок пятого.
Ялтинское мироустройство не сделало послевоенный мир стабильным. Если бы СССР не создал еще в 1940-е ядерное оружие и средства его доставки, то наши города лежали бы в радиоактивных руинах. За условным романтиком Рузвельтом пришел безусловный ястреб Трумэн, а сэр Уинстон Черчилль, забыв про сталинский коньяк, объявил Советам в Фултоне холодную войну. «Так называемая стабильность ялтинских соглашений была постоянным источником несправедливости и страха», — сказал спустя много лет президент США Джордж Буш-младший. Ключевое слово в этом утверждении — «была». К тому моменту Вашингтон и Лондон уже давно наплевали на «принципы Ялты».
Все, кто ныне приходит в Ливадийский дворец и смотрит на восковые фигуры трех сидящих за овальным столом ялтинских переговорщиков, должны помнить: тогда, в сорок пятом, за три месяца до Великой Победы, Россия победила еще и на дипломатическом фронте. И это огромное достижение до сих пор с сугубой неохотой признают наши недруги, стремясь вычеркнуть его из истории.
Фото: РИА Новости