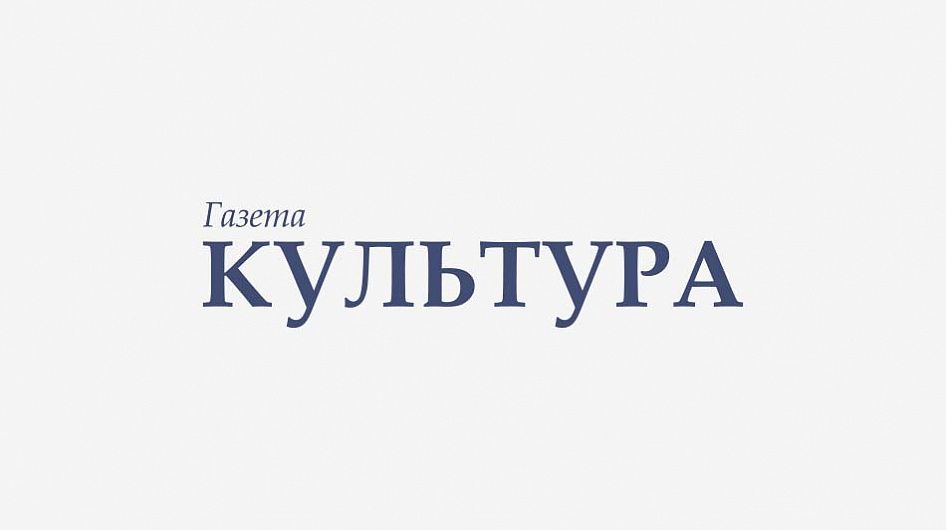
Павел Филонов. Из новой книги Максима Кантора «Чертополох и терн». Продолжение
Книга выйдет в издательстве АСТ в августе 2021 года. Глава № 32 «Павел Филонов» публикуется с разрешения издательства.
«Культура» рада представить читателям главу № 32 «Павел Филонов» из книги художника, философа Максима Кантора «Чертополох и терн».
Предыдущая часть главы доступна по ссылке
4
Революция пугает многих больше, чем война. Странно: у самой кровавой революции жертв меньше, чем в локальной войне. Но война не разрушает «порядок вещей», лишь убивает людей; а вот революция рушит все до основания. Порядок вещей дороже жизни. Здесь важно то, что привычный всем порядок вещей — в числе прочего — включает войну.
Война — представляет порядок вещей и отменяет революцию, а революция, в свою очередь, отменяет войну.
Война — это революция богачей, а революция — война бедняка.
Маяковский, великий поэт революции, выразил эту мысль ясно:
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это — единственная
великая война
из всех,
какие знала история.
По тому, как художник начала XX века относился к мировой войне, легко определить степень его «революционности». Маяковский пишет антивоенную поэму «Война и Мир», но почти полгода у Маяковского ушло на то, чтобы понять: славить империалистическую войну позорно. Даже он отметился в сочинении двустиший для патриотических плакатов. Что говорить о прочих: интеллигенция России славит смертоубийство во славу Родины. Наталья Гончарова создает героический цикл гравюр (казаки, самолеты, архангелы), Михаил Ларионов продолжает «солдатскую» серию пасторальных картин, Малевич и Лентулов рисуют патриотические лубки, Василий Шухаев пишет батальное полотно на заказ, и т.д.
Павел Филонов в 1915 году написал картину «Германская война». Ни романтики, ни архангелов, ни воинского долга в картине нет. Изображено кровавое месиво. Согласно Филонову, мир пребудет хаосом, пока история не обжита замыслом труда. Миром правит война, предельное выражение хаоса, но хаос и есть привычный порядок вещей. В кровавой каше взгляд может отыскать подобия антропоморфных элементов; где-то мелькнули пальцы, где-то спины. Понятно, что грязную кашу приготовили из людей; изображено в буквальном смысле слова «пушечное мясо».
За два года до написания этой вещи (и за год до начала мировой войны») Павел Филонов написал одну из самых важных картин — «Пир королей»; автору было тридцать лет — в этом возрасте Христос пришел в Капернаум; это возраст понимания. Было бы поистине странно, если бы религиозный мыслитель Филонов не примерял на себя даты. К тому же в то время все революционные мастера использовали евангельский дискурс.
Картина торжественно-значительная, пафосом — церковная; но, подобно босховским сатанинским триптихам, для храма она не годится.
Хлебников называл эту картину «пиром трупов»; и такое впечатление от картины оправданно в контексте мировой бойни. Можно развить метафору Хлебникова и сказать, что изображен совет вампиров, готовящих войну, упивающихся кровью, делящих планету. Ясно, что происходит собрание по важнейшему поводу, название картины «пир королей» говорит само за себя.
Вот так шла подготовка к войне, устроили передел мира вроде того, что имел место в Мюнхене 1938-го, Москве 1939-го или в Ялте 1945 года. Вампиры привыкли решать судьбы народов за обедом: уселись за стол, выпивают, закусывают, передвигают по столу армии, списывают в тираж миллионы. Эти короли-вампиры на картине — правители современных художнику империй: вот этот урод — Николай Второй, его сосед — Клемансо, за ним — Георг Пятый, и т.д. На символическом уровне такое толкование уместно; подтверждено мировой войной.
Однако картина заслуживает более подробного изучения: Филонов был философом. Это слово часто применяется по отношению к художникам, однако не все художники, даже очень хорошие, — философы. Скажем, Ренуар или Моне, Серов и даже размышляющий над формами Врубель — философами не были; они не хотели ничего сказать о мироустройстве. Это просто не входило в круг их интересов, искусство, как представлялось им, существует для другого. А Филонов считал, что искусство существует как инвариант философии. Сам он выражался так: «Надо быть идеологом мирового масштаба» — сказано с той самоуверенностью, что была присуща мастерам революционных лет. Впрочем, подобной самоуверенностью обладали Кампанелла, Микеланджело и Бруно. Филонов принадлежит к мыслителям этого уровня.
Картина «Пир королей» выполнена в красно-лилово-коричневых тонах, карнация картины (общий тон, тот эффект, что производят все цвета разом, сплавившись в единый цвет в нашем глазу) напоминает запекшуюся кровь, сукровицу на гноящейся ране. Реализм ощущения превосходит «правду» документального кадра и фиксацию реального факта. Художник пишет самое важное в происходящем — гноящуюся рану; вся картина — это гнойная сукровица.
Сказать, что общий цвет картины — это цвет гноящейся раны, можно; но сказать, какого конкретно цвета тот или иной персонаж, предмет или воздух в картине — нельзя. Собственно, этого сказать нельзя ни о каком предмете в любой картине Филонова. Дело в том, что абсолютно всякий предмет в картинах мастера есть функция от космоса, каждый предмет воспроизводит весь набор цветовых хромосом среды. Из цветного хаоса ткутся объемы и каждый раз возникают сочетания всех цветов, взятых из хаоса для создания данного предмета. Спустя годы Станислав Лем описал этот феномен в фантастическом произведении «Солярис», где показано, как все в мире сделано из единой субстанции. Вообще говоря, это не есть мысль Лема и не есть мысль Филонова — это положение разделяют многие философии, одним из первых его сформулировал Анаксагор; в недавнем прошлом, в XVII веке то же самое, в терминах, приближенных к нашему словарю, говорил Гассенди. Все — едино и происходит из единого; персонажи картины слеплены из одного материала. Они все — как запекшаяся кровь. Чтобы подчеркнуть их тождество, Филонов наделил всех одинаковыми лицами — перед нами одиннадцать одинаковых человек (если не считать одной женщины, несомненно главной за пиршественным столом). Трое одинаковых мужчин — главные, прочие участники пира в тени.
Тождественность персонажей обыгрывали многие: от Ганса Мемлинга в «Страшном суде» до Поля Дельво в сюрреалистических композициях. Мемлинг показал неотличимость греха от добродетели, Поль Дельво рисовал вечный сон, в котором события удваиваются, а Филонов использовал прием тождественности — чтобы описать заведомую бессмыслицу принятия решений. Собирая совет, обычно рассчитывают на столкновение мнений, чтобы найти лучшее решение. Но разногласий на пиру королей не будет — все члены совета абсолютно одинаковы. Двое сложили руки на груди в молитвенном жесте; женщина, сидящая между ними, аплодирует вампиру, поднявшему тост; карлик, скорчившийся под столом, аплодирует тоже; следующий вампир скрестил руки на груди, абсолютно довольный; тот, что сидит справа, руками развел — он со всем согласен. Лишь сидящий на полу несколько нарушает общую гармонию — схватился за голову.
Собрание — сакральное. В сюжете можно высмотреть «Тайную вечерю»»; правда, фигур одиннадцать, не двенадцать. Впрочем, Иуда был бы лишним: здесь все — Иуды. Каждый страшен и каждый заявил, что он невиновен. Неожиданно понимаем: изображен не жест молитвы — но жест уверения в святости. Каждый из упырей клянется, что не пьет крови. В центре стола (и в оптическом центре картины) — блюдо с рыбой, символом Иисуса. Бога приготовили, сейчас съедят — изображена черная месса.
Павел Николаевич Филонов в молодости был православным. Существует апокриф (документами не подтвержденный), будто он ходил в паломничество в Иерусалим, сохранилась икона его кисти. Христианская вера сменилась у Филонова на атеизм; затем трансформировалась в коммунистические убеждения. Эволюция сходная происходила с Кампанеллой или Джордано Бруно, да и сам Маркс посвятил свое юношеское сочинение Иисусу Христу.
В картине «Пир королей» художник сводил счеты с христианством, в том изводе, в каком христианство явлено цивилизацией. Картину «Пир королей» Филонов писал практически одновременно с картиной «Волхвы» (1914), картиной «Трое» (1914, вариант «Троицы», с чашей в центре композиции) и «Крестьянской семьей» («Святым семейством», 1914). Исходя из предложенной самим художником иконографии, приходится видеть в «Пире королей» — сцену поклонения волхвов. Властители мира посетили Святое семейство: маги, волхвы (их и называют королями) пируют на тризне христианства. Мельхиор, Балтазар и Каспар окружают Марию; короли Балтазар с Каспаром сложили руки молитвенным жестом, а король Мельхиор поднял тост за здравие. Дева, выхваченная лучом света, сидит меж двумя волхвами. Руки Марии пусты — Ее Сын представлен на столе в виде рыбы. Иосиф сидит на полу, обхватив голову руками.
Канонический сюжет поклонения волхвов художник Филонов вдруг переиначил: что, если волхвы — это посланники Ирода, пришедшие, чтобы убить младенца — и съесть. И таким образом сюжет «Пир королей» вплавлен в подготовку к Первой мировой; это собственно говоря, один и тот же сюжет. Из такой картины выход может быть один — революция.
Думал так Филонов, когда рисовал свою картину, или нет, уже не столь важно — в истории мысли картина существует сама по себе, обрастая смыслами уже вне зависимости от воли автора.
Филонов препарировал христианские легенды с научной точки зрения; до «Пира королей» выполнил рисунок «Казнь» (1913): распят не один Иисус, но десяток распятых, и на первом плане стол с многими убитыми рыбами. Мысль проста: революция отменяет религию, отныне каждый казненный — Бог.
Казалось, что история всего человечества отныне станет демократической, с империями покончено навсегда; то обстоятельство, что демократии в истории мира случались и прежде, закономерно перетекая в тирании и олигархии, не рассматривалось. В 1917 году истории человечества предъявили счет: объявили, что общество обязано выйти из-под имперской и даже, пожалуй, из-под государственной опеки; человеческий коллектив в состоянии строить свое благо без навязанной воли; согласно коммунистической доктрине, государство должно отмереть, а то, что на переходном этапе роль государственного аппарата возрастает — это воспринималось как рабочая необходимость.
Схоласт революции Филонов был всю жизнь занят тем, что пытался обучить людей новому взгляду на мир.
Утопии, как правило, грешат прямолинейностью, потому утопии и не любят. Обыватель знает: жизнь сложнее, многообразнее любой схемы.
Обычное возражение утопии звучит так: «Это, конечно, прекрасно на словах. Но кто с предложенным равенством согласится? Разве люди равны от природы? Разве у людей равные таланты? Как распределить трудовую повинность? Почему всем надо трудиться одинаково, если один умеет играть на рояле, а второй только и может таскать мешки? Но кто смирится с грязной работой, если соседу досталась чистая? Вот вам и конфликт классов. Разве у людей одинаковые потребности? Один любит мясо, другой — рыбу, а на складе только мороженая картошка; как быть? Легко создавать генеральные проекты — попробуй вникнуть в детали!» Мы привыкли именно так опровергать любое прекраснодушное пожелание: мол, реальность поправит схему.
Надо сказать, что мы изо дня в день легко миримся с неравным распределением продукта труда и с неравномерной занятостью населения — относя эти социальные несовершенства просто к природе вещей. Вряд ли миллиардеры лучше и талантливее бедняков именно в миллиард раз, однако мы принимаем этот разрыв как едва ли не природное явление. Но вот смириться с тем, что все будет поровну, — с этим смириться мы отчего-то не можем: нам равенство кажется ненатуральным.
Кампанелла же обладал иным зрением.
«В Неаполе, — писал Кампанелла, сравнивая порядки Города Солнца с итальянской реальностью, — семьдесят тысяч населения, а трудятся из них всего каких-нибудь десять-пятнадцать тысяч, истощаясь и погибая от непосильной и непрерывной работы изо дня в день». Кампанеллу шокировала несообразность в обществе, где трудилась одна шестая часть населения, — что сказал бы он по поводу стран, где в нищете пребывает восемь десятых?
Стало едва ли не хорошим тоном упрекать Великую Французскую революцию в нелепых пожеланиях равенства, в несовершенстве теоретической (утопической, естественно) базы.
Мы легко называем Марата и Робеспьера варварами, а прозвище «друг народа», данное Марату, вызывает саркастическую улыбку. Нам сегодня ясно, что ломать старый порядок ради мифического равенства нехорошо. Между тем наше сознание легко принимает разврат французского общества, царивший до Французской революции. «Кто не жил до 1789 года — не знает, что такое сладость жизни!» — восклицал Талейран, отмеряя именно наступлением злосчастной эпохи равенства конец непрекращающегося блаженства сильных мира сего. Блаженство было воистину беспрецедентным — разве что сегодняшнее время сверхбогачей может соперничать в роскоши с упоительным веком абсолютизма. Абсолютизм — означал абсолютное удовлетворение любых потребностей сильных мира сего. Король (казненный впоследствии революционерами, за что те прокляты потомками), подводя итог тому, что он сделал за период с 1776-го по 1779-й, отметил «сто тридцать четыре охоты на кабанов, сто четыре охоты на оленей, двести шестьдесят шесть на диких коз, тридцать три охоты с молодыми собаками» —иначе говоря, государь из трех лет полтора года провел на охоте. При том, что прочие его дни были заняты фейерверками, любовными утехами, постройкой павильонов для карнавалов, поездками в парки и, главное, бесконечными пирами, каждый из которых превышал стоимостью годовой бюджет небольшого города. Присовокупите к этому то, что стиль жизни короля был доведен до гротескных форм его придворными, а проказы последних — стали примером для любого сильного по отношению к любому слабому. Роскошь, возведенная в правило, сделала жизнь обычных людей — вне салона и Версаля — не просто трудной, но бессмысленной: все, что производилось многодневным крестьянским трудом, тратилось даже не за один день, но буквально за одну секунду бурного бала.
В эпоху абсолютизма проект итальянского Ренессанса (см. Флоренцию Медичи, Фичино и Лоренцо Валла) забыт; надежды на просвещенных Франциска Первого и Карла Пятого, монархов, которые создадут вожделенную Данте «мировую христианскую монархию», утрачены; усилия Эразма и Мора преодолеть спесь национальных государств сведены на нет; власть и сила являются основанием для права — в это самое время возникают утопии социализма. Социалистические утопии Кампанеллы (и следом за ним — Фрэнсиса Бэкона, Сирано де Бержерака, Варгаса) наследуют ренессансной вере в морального субъекта, наделенного свободной волей.
Сегодня в социалистических утопиях, написанных во время абсолютизма, усматривают едва ли не варварство: как можно рушить прекрасный дом? Между тем Кампанелла лишь наследовал взглядам Эразма и Мора, простым императивам гуманизма. Кампанеллой двигала отнюдь не наивность — но то, что чувство, которое Честертон определял как «упорство в правоверии». Быть хорошим и добрым — хорошо, а плохим и жадным — быть плохо, что же здесь революционного? Это ведь и Маяковский так просто объяснил в стихотворении «Что такое хорошо и что такое плохо»:
Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик так хорош
Загляденье просто!
А Кампанелла писал так:
Не медлите ж! Пусть вольный ваш народ
Свое добро отнимет у господ,
Что втридорога вам же продается.
Это написано об одном и том же: о том, что нельзя безнаказанно обижать слабых. Так поступать нельзя — и ничто, ни власть, ни рынок, ни разумный расчет, совершенно ничто не дает право на унижение другого. Когда утопический мыслитель неожиданно произносит простую истину — эта простая истина шокирует: как же так? Неужели нельзя угнетать, если так устроен мир?
Удивительным образом картины Филонова, описывающие быт коммуны — и ничего, помимо быта коммунаров, — кажутся нам сегодня гротеском. Многим представляется, что Филонов изобразил тупой ужас труда, оттого и популярно дежурное сравнение Филонова с Платоновым. В произведении Платонова «Котлован» (данная книга рассматривается всеми как гротескная антиутопия, рисующая бессмысленный самоубийственный труд), труженики заняты тем, что роют огромную яму под строительство, которое никогда не начнется, и тем самым копают могилу самим себе. Этот пугающий образ общего бессмысленного надрывного труда тем меньше связан с эстетикой Филонова, что Филонов считал труд источником счастья.
Поразительно, что вопиющая неравномерность распределения трудовой повинности шокирует нас менее, нежели пожелание равенства в труде. Простое соображение о том, что у человека, обученного лишь таскать мешки, а потому обреченного таскать мешки, может быть скрытый талант к музыке, — нас не посещает. Мы легко принимаем разграничение социальных страт — с тем же основанием, как разграничение биологических видов; социальный дарвинизм побеждает любую утопию.
И в самом деле: избежать того, что сильный применит силу для обустройства личного блага, практически невозможно. А как эту силу обуздать? Кампанелла, как в свое время и Платон, выдумывая регламент идеального государства равенства, столкнулся с простейшим вопросом: кто будет руководить обществом равных? Очевидно, что сильный; но как этому сильному не стать самым богатым? Как следить за равным распределением? Кто создаст закон, по которому будет осуществляться распределение? Где гарантия того, что этот законодатель не присвоит себе львиную долю общественного продукта?
Томмазо Кампанелла считал, что управлять обществом должна религия — но очищенная от догм, ханжества, фанатизма. Верховным правителем утопического города является Солнце, в понимании Кампанеллы это слово означает — Метафизик; материальное чуждо природе правителя, в его огне власть вещей попросту сгорает. (Уместно вспомнить, что и платоновской республикой правят философы, лишенные страсти к стяжательству.)
В своих стихах Кампанелла говорит так:
Расплавьте спесь, невежество и ложь
В огне, что мной у Солнца был похищен.
Астрологические и социальные взгляды Кампанеллы воплощены в системе общественного устройства. Верховный правитель Метафизик-Солнце держит подле себя трех соправителей: Любовь, Мощь и Мир. Последние трактуются Кампанеллой как своего рода стихии (сила элементов утверждается с языческой истовостью, что противоречит христианской метафизике — но таковы взгляды Кампанеллы). Мир ведает вопросами искусств и ремесел, Мощь — военной учебой и боеспособностью города, Любовь — деторождением.
В картинах Филонова можно видеть, что его утопия строится по тем же правилам. Требуется защитить коммуну от жадных, соединить ремесло и искусство ради общего строительства, оградить коммунаров от ложных мещанских страстей.
Будет неточно, если не вспомнить пародию на Город Солнца Кампанеллы — я имею в виду «1984» Джорджа Оруэлла. Оруэлл описывает три министерства: министерство Мира, которое занимается войнами, министерство Правды, которое занимается дезинформацией, и министерство Любви, которое ведет тотальный террор населения. Для такой реакции основания имеются: Кампанелла описывает совершенную казарму. Любовь в представлении Кампанеллы (он был доминиканским монахом) имеет смысл лишь как средство произведения потомства, желательно здорового. Кампанелла, подобно Платону, не считал, что индивидуальные браки способствуют общественному единению — в его идеальном городе жены общие: женщина переходит от мужчины к мужчине, руководствуясь распоряжением Метафизика и анализом того, кто заведует вопросами размножения. Слабым и не здоровым людям в сожительстве с женщинами отказано. Разумеется, для сегодняшнего дня эта модель общежития представляется чудовищной — справедливости ради укажем, что права женщины в казарменном обществе равны правам мужчины, дискриминации по гендерному признаку не происходит. Кампанелла исходит из того, что «любовь» есть чувство всеобщее, а не личное. И в том обществе, которое проецирует на своих полотнах Филонов, индивидуальной любви между мужчиной и женщиной — нет. Страсти подчинены общему строительству и идее равенства; мужчина и женщина в коммунистическом обществе представлены как представители рода (см. «Мужчина и женщина»). Чувственное отношение к женщине Филонов расценивает как приобретательство. Не сохранилось свидетельств того, как относился Филонов к эротическим холстам Буше или чувственным портретам юношей кисти Караваджо; несомненно, испытывал презрение. Картины Филонова, как и сочинения Кампанеллы, выражают определенную мысль: мы живем ради других, и не только избранных; наше личное существование оправдано ежедневным трудом на пользу всех, испытывающих лишения. Можно называть этот образ мысли «казарменным коммунизмом», можно «христианской догматикой», но факт остается фактом, в Петрограде/Ленинграде жил и работал художник, который картины посвятил выражению этого принципа. В одно время с ним и рядом с ним работали другие художники, которые оформляли парады, изображали фальшивую радость картонных пионеров от «смычки города и деревни» (см. картину Малевича «Смычка города и деревни», написанную тогда, когда живописец решил служить власти иными формами, нежели супрематизм). Филонов не изменялся никогда и ни на йоту. Он проповедовал аскетизм и сам был аскетом: высокий, жилистый, худой, напоминавший Дон Кихота (по свидетельству О. Матюшиной). Лицо мастера, лицо поразительной лепки — с непропорционально огромным высоким выпуклым лбом и глубоко посаженными глазами — поражало, как поражает и сейчас с фотографий, свой истовостью. Это безусловно лицо святого, «изваяние труда», если использовать метафору Пастернака. Скажем, жовиальный облик полнощекого Малевича живо контрастирует с его квадратами, а румяное круглое лицо Бабеля не вполне соответствует образам суровой Конармии.
Сухая скупая природа телесного облика приобретается неустанной заботой о другом, абсолютным безразличием к собственным удовольствиям. Стоит дать волю чувству собственника, стоит начать искать удовольствий и жить ради себя — как черты человека меняются. В ранней акварели «Мужчина и женщина» (1912) Филонов применяет один из любимых своих приемов: показывает, как множится естество человека, не способного утвердить свой монолитный нравственный образ. У мужчины появляются десяток рук и сотни пальцев, которые тянутся к испуганной женщине. Страсть к обладанию превращает мужчину в паука. В работе «Перерождение человека» (1913) (авторское название: «Перерождение интеллигента»; известен рисунок и живопись, развивающая тему рисунка) показана постепенная трансформация цельного образа человека — в раздробленное, размноженное в десятке копий существо, многорукое насекомое, создан образ трусливого обывателя без лица, но с тысячей алчных дрожащих рук.
Любопытно — данное замечание не относится к разговору о Филонове, но удержаться от замечания трудно — что в те же годы (в 1912-м) Марсель Дюшан создает картину, занявшую у него много времени, «Обнаженная спускается по лестнице». В этой вещи Дюшан, ради того, чтобы передать движение человека, расщепляет цельное изображение на множество поз и ракурсов, дает как бы поэтапную демонстрацию движения — подобно раскадровке, выполненной для анимационного фильма, когда мультипликатор отрабатывает последовательность сгиба локтя, движения ноги. Этот холст, признанный новаторским, формально напоминает произведение Филонова «Перерождение интеллигента», с той лишь разницей, что холст Дюшана лишен содержания и ни единой мысли, помимо механического движения, не выражает. Кстати, сам Филонов порой тоже использовал прием расслоения изображения на фазы движения — чтобы показать бег лошадей, например, или поворот головы. Но в «Перерождении интеллигента» речь совсем об ином.
Филонов в холсте «Перерождение интеллигента» написал болезненно верный портрет российского рефлексирующего обывателя, не способного отказаться от себя и потому себя теряющего. «Прекрасный страдальческий Филонов, малоизвестный певец городского страдания», высказался на сей счет поэт Хлебников, считавший, что художник изобразил разрушительное воздействие города на человека. Но картина совсем о другом. Написана деконструкция образа, распыление сущности — и во время мировой войны это суждение оказалось до обидного точным в отношении большинства интеллигентов, согласившихся с массовой резней ради государственных целей. Разумеется, для коммуниста Филонова общность людей, человеческая солидарность и взаимная ответственность не выражались через понятие «государство». Не государство строит Кампанелла и не государство строит Филонов своими картинами, но общество, общину, коммуну.
Мы будем работать, все стерпя,
чтобы жизнь, колеса дней торопя,
Бежала в железном марше
В наши вагоны, по нашим путям,
В города промерзшие наши.
В этом стихотворении Маяковского нет речи о государственной железной дороге и о городах Российской Федерации — но дорогах и городах, принадлежащих всем людям, обществу, коммуне и потому достойных того, чтобы отдать все силы труду на их благо.
Ради труда можно и должно поступиться всем, — потому что это не рабский, но свободный труд. Так именно понимал труд Рабле, когда говорил о добровольном подвижничестве в Телеме, и если Кампанелла, Маяковский, Чернышевский и Филонов говорили о том же самом чуть более жестко, то потому лишь, что начальный период строительства коммуны требует ежечасных усилий.
Подобно тому, как регламентирована любовь, ограничены и потребности в пище, одежде, занятиях. Кампанелла настаивает на занятиях науками и искусствами, совершенно отрицая игры и сводя развлечения к спортивным состязаниям; игры (например, шахматы) запрещены. Жилище соляриев (обитателей Города Солнца) унифицировано предельно; Кампанелла отводит несколько страниц описанию симметрично выстроенной башни, в которой каждый ярус повторяет предыдущий, а внутри башни концентрические круги стен создают однообразные сферические пространства. Стены расписаны поучительными картинами — рассказывающими о флоре и фауне, небесных светилах и богах, о пророках и апостолах. Эта конструкция — если постараемся мысленно воссоздать проект Кампанеллы — удивительным образом напоминает проект Телемского аббатства Рабле и также напоминает Вавилонскую башню, написанную Питером Брейгелем (картина из Венского культурно-исторического музея). Брейгель нарисовал ту же систему однообразных ярусов с полукруглыми арочными окнами-дверьми, ту же систему концентрических кругов однообразных стен.
Брейгель, создавший свой проект общества раньше, нежели Кампанелла, руководствовался, впрочем, теми же побудительными мотивами — противопоставить империи такую конструкцию, которая, в единении с природой, образовывала бы естественную республику равенства. Даже ненависть к испанской империи роднила фламандского художника и итальянского философа — империя Габсбургов подчинила и Нидерланды и Южную Италию. Брейгелевская тяга (даже болезненная потребность) к всеобщему равенству выражалась в изображениях бесконечно населенного мира, где каждый равен каждому, где нет господ и рабов, где общий труд есть условие существования. В бесконечных толпах, обживающих бесконечные пространства, оживает каждый персонаж — и он тут же растворяется в общем потоке. И эту толпу номад Брейгель разместил в огромной башне, возводимой руками самого народа. Неутомимые муравьи карабкаются высоко в облака, и речи нет о том, чтобы Бог (как то было с легендарной башней Вавилона) разрушил эту постройку. Существенно здесь то, что башня Брейгеля возведена вокруг скалы — все здание, собственно говоря, построено из материала самой скалы — зрители могут видеть, как неутомимые строители превращают камень в плиты и этими самыми плитами возводят новые и новые этажи.
«Дом-коммуна в десять тысяч комнат», — как определил свое представление о мечте Маяковский, — будет возведена упорным, нескончаемым трудом единомышленников и товарищей; такой труд и есть пресловутый «высокий досуг»; другого высокого досуга не существует; об этом же пишет Чернышевский в своем тюремном романе. Об этом же говорил Ван Гог, считая ту коммуну, которую пытался построить в Арле, образцом общежития тружеников.
Филонов — как безусловный последователь Брейгеля, Чернышевского, Кампанеллы, Ван Гога, Маяковского — провозгласил саму субстанцию, материю труда, сам трудовой процесс предельным выражением свободы.
Поучительно сравнить эти рассуждения Филонова с программной статьей авангардиста К.С. Малевича «Лень как действительная истина человечества». Данное утверждение не ироническое и не саркастическое, но выражает надежду супрематиста на те времена, когда машины будут трудиться, а человек отдыхать.
Согласно Филонову, труд есть форма любви — поскольку в труде человек выражает заботу о себе подобных и, через эту заботу, только и состоится как человек.
Проблема в том, что государство рассматривает субстанцию труда — иначе.
Продолжение по ссылке.
На фотографии фрагмент картины Павла Филонова «Пир королей».


