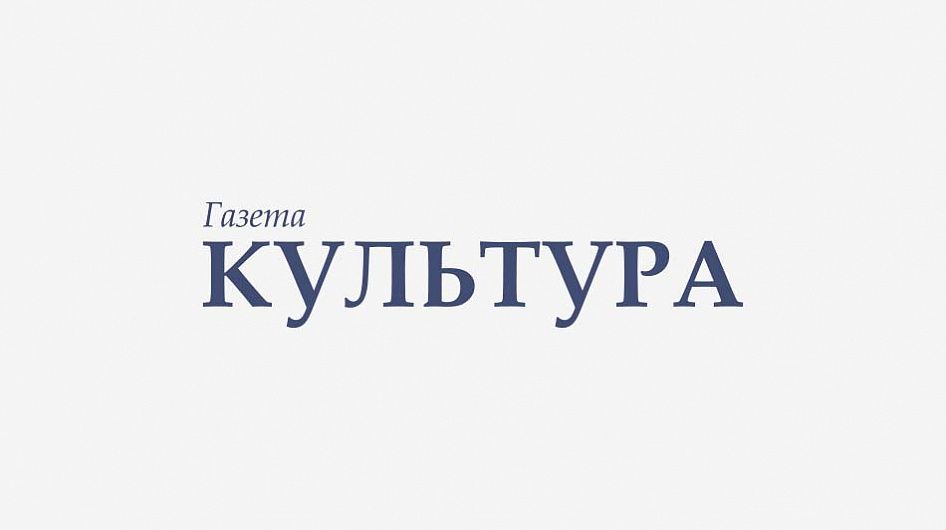
Малевич как мем: выставка классика соц-арта Александра Косолапова
Проект DTM в московской галерее Syntax — всего лишь вторая персоналка художника в России.
Александр Косолапов — автор культовых работ, где профиль Ленина соседствует с логотипом Coca-Cola, а красно-белый узор с пачки сигарет Marlboro соединяется с надписью «Малевич. Sold here». Художник сравнивает коммунистические символы с идеологемами общества потребления и неожиданно обнаруживает много общего. Подобная смелость не всегда встречает понимание: например, претензии Косолапову высказывала Coca-Cola, вероятно, испугавшаяся ассоциации с коммунизмом. В своей новой серии Косолапов продолжает исследовать идеологичность сознания и обращается к теме BLM. Эти работы, как и другие известные произведения Косолапова, представлены на выставке DTM в галерее Syntax. О восприятии русского искусства за рубежом, возможности абсолютной свободы и о новой этике «Культура» поговорила с Александром Косолаповым и основательницей галереи Эльвирой Тарноградской.
— Как готовился проект в условиях пандемии?
Эльвира Тарноградская: Возможность выставки обсуждалась давно. В нынешнем виде проект возник год назад. Тогда Александр Косолапов приехал в Москву из Нью-Йорка, и мы начали работу. Выставка была запланирована на осень. Потом Александр пережил ковидный карантин в Нью-Йорке, стал свидетелем беспорядков, связанных с движением BLM. Осенью 2020-го он прилетел в Москву работать над выставкой. Она была практически готова, но мэр столицы объявил о запрете выставочной деятельности с 13 ноября на 2 месяца. Впрочем, что ни делается, все к лучшему. Мы рады сейчас открыть проект: начать год с такого важного высказывания.
— Почему в названии проекта DTM зашифрованы Дюшан, Татлин и Малевич?
Александр Косолапов: Идея обратиться к наследию мирового авангарда родилась у меня в 2017 году. Тогда в Нью-Йорке проходила выставка, посвященная столетию «Фонтана» Дюшана: в ней участвовали многие известные художники. Мне стало ясно: я сам, как и авторы моего круга, стоим на плечах гигантов — левых художников Европы и Америки. Кроме того, в 2015-м исполнилось 100 лет «Черному квадрату» Малевича. Поэтому проект DTM включает в себя отсылку к наследию русских художников. Работая над скульптурами, я создал девушку с башней Татлина, потом добавил «Квадрат» Малевича, а затем — парафраз «Фонтана» Дюшана.
Э.Т.: 100-летие «Черного квадрата» и дюшановского редимейда L.H.O.O.Q. («Мона Лиза» с усами. — «Культура»), а также столетие башни Татлина, созданной в 1919-м, — важные даты. Реперные точки, на которые мы опираемся в восприятии искусства. Эти произведения прочно вошли в массовую культуру, и Александр рифмует их с другими медийными образами.
— Почему это только вторая персональная выставка в России? Первая, кстати, тоже состоялась совсем недавно.
А.К.: Да, в 2017 году в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре. Что касается моей выставочной судьбы… В 2005 году Андрей Ерофеев на выставке «Русский поп-арт» в Третьяковке показал мою работу «Икона-икра», которая была изъята. За два года до этого подверглась нападению моя работа Coca-Cola. This is my blood. Надо понимать: я один из первых художников, обратившихся к соц-арту. Это направление задает определенный ракурс для анализа социальных процессов, переноса их в культурное поле. Уровень моих работ был слишком радикальным для России того времени.
Еще одна причина — профессиональная некомпетентность русских дилеров. Непонимание, что спрос на художника поддерживается политикой галереи. На Западе художник и галерея работают тандемом. Русские дилеры, к сожалению, не несут ответственности за свои рыночные поступки. В этом смысле Эльвира — совершенно западный дилер, она прекрасно понимает разделение функций между художником и галереей. Подобного в России я еще не встречал.
— Какой, по вашему мнению, будет реакция публики?
Э.Т.: Я вижу большой интерес к Александру Косолапову, как к фигуре значимой и актуальной. Соц-арт родился на обломках коммунистической идеологии и во многом обнажал несостоятельность властных институтов той эпохи, однако он оказался актуальным и в наши дни. Капиталистическая идеология потребления рефлексируется в работах Александра Косолапова. Его визуальный язык адекватен нынешнему клиповому сознанию — когда месседж ухватывается мгновенно: он прост, но при этом парадоксален.
— Александр Семенович, почему в некоторых интервью вы сравниваете свои произведения с мемами?
А.К.: Под мемом мы понимаем образ, который функционирует в социальном поле. Почти все мои работы попадают под это определение. Я очень рано был озабочен проблемой взаимодействия со зрителем. В моем понимании искусство должно быть интерактивным. Оно должно воздействовать на зрителя, но и зритель воздействует на него. Художник должен чувствовать социальный заказ зрителя. Свои работы, сочетающие художественный образ и месседж, я представляю как билборды на хайвеях. Зритель, проносящийся на большой скорости, должен успеть воспринять их. Они как образ, как мем уходят на уровень подсознания, уходят в его память. Этой стратегии я следовал долгие годы, постоянно смотрел на свои произведения под таким углом.
Мой язык — сближение двух противоположных образов (знаков) и создание метафоры или мема — складывался не сразу. Первая значимая работа, созданная мной в Америке — «Ленин Coca-Cola», — сразу попала в поле зрения медиа. Coca-Cola даже грозила судом, вела себя очень агрессивно: они увидели в моей работе реальную угрозу своему имиджу. В начале 90-х я приехал в Россию, увидел McDonald's и сделал McLenin’s. Эта работа также стала популярна, особенно в Восточной Европе.
Э.Т.: В наше время любое искусство превращается в мем. Произведения Александра легко «мемифицируются», потому что содержат понятные визуальные символы. И хотя взаимосвязь этих символов не всегда очевидна, сами образы знакомы любому зрителю и с этой точки зрения конвертируются в мем.
— На излете СССР мы видели большой интерес к российскому искусству за рубежом. Сейчас он схлынул, даже говорят о стеклянном занавесе. Почему это произошло?
Э.Т.: Интерес, который был в конце 80-х — начале 90-х, уже, наверное, не вернуть. Тогда еще была надежда, интерес к неизведанному и новому. Сейчас у России напряженные отношения с остальным миром. И, конечно, есть ощущение, что нас немного бойкотируют. Мне кажется, представление о том, что рынок искусства глобален, — иллюзия. Львиная доля оборота рынка современного искусства всего мира приходится на американский рынок. Вообще каждая национальная школа в искусстве по-своему локальна. Российское искусство должны поддерживать прежде всего российские коллекционеры — своим энтузиазмом и кошельком. Экономическое чудо, случившееся с китайским искусством, во многом было обусловлено поддержкой национальных коллекционеров, а вовсе не мировым интересом к Китаю. Несомненно, подобный интерес есть. Но существуют также опасения, связанные с Китаем, — и у Америки, и у всего мира.
А.К.: Я согласен с Эльвирой. Когда случилась перестройка, у Запада возникло представление, что вот — новая зона, которую надо осваивать, понимать. Огромные надежды связывались с окончанием холодной войны. Это были годы активного внимания к русскому искусству. В 80-е на Запад уехали Кабаков, Булатов, Брускин. Но с годами это все утихло. И значительную роль в этом сыграло охлаждение отношений между Западом и Россией: политическое, экономическое.... Но, конечно, искусство имеет свою судьбу, это не только экономика. Трудности русских художников в некотором смысле связаны с непониманием того, что существует интернациональный контекст, что у произведений должен быть месседж.
Кроме того, искусство поддерживается трендами и модой. Так, китайское искусство было чрезвычайно популярно в 2000-е. Я работал тогда в Париже, и в каждой галерее были китайские художники. Однако эта волна также схлынула. Спекулятивные ожидания и надежды не оправдались и в отношении китайского искусства. Ай Вэйвэй финансово поддерживался огромным капиталом — китайских банков и различных структур. При этом он около десяти лет прожил в Нью-Йорке неизвестным художником. В каком-то смысле его судьба параллельна моей: он впитал американскую идеологию, структуру, идеи кэмпа. По сути, стал нью-йоркским художником, как отчасти и я. Многие его идеи взяты из западной культуры или модифицированы. Но в целом мне кажется, что китайское искусство не сумело создать нечто оригинальное. Оно так же, как и русское, осталось периферийным.
— Александр Семенович, в одном интервью вы рассуждали о том, хотели ли бы вы стать американским художником. Удалось ответить для себя на этот вопрос?
А.К.: У меня был успешный старт в Америке. Маргарита Тупицына в 1986 году организовала в Новом музее современного искусства в Нью-Йорке выставку соц-арта, которая, по сути, познакомила западного зрителя с этим феноменом. Одновременно я получил от одного бродвейского галериста, представлявшего галерею «Семафор», предложение сделать выставку. Выставка имела успех, все работы были проданы. Но в какой-то момент я для себя решил — не хочу быть американским художником. Я понимал, что у меня нет достаточного опыта, знания и понимания американской культуры. При этом я большой поклонник американской культуры. Но в честном отчете перед самим собой решил: я житель Нью-Йорка и москвич, русско-американский художник, я — интернациональный художник. Отчасти эта позиция оправдала себя. Я делал много выставок в Америке и Европе, мои галереи были в Нью-Йорке, Париже, сейчас работаю с галереей в Женеве. И меня там не воспринимают исключительно как американского или русского художника.
— На московской выставке есть работа, отсылающая к теме BLM: автопортрет с закрашенным лицом. Она предназначена для российского или западного зрителя?
А.К.: Мои близкие друзья, живущие на Западе, просили ее не делать, особенно в Америке: говорили, что меня обвинят в расизме, что это меня разрушит. На самом деле эта художественная акция отсылает к авангардному подходу Дюшана, менявшему personality, — вспомните его женское альтер-эго «мадам Селяви». Меня показался интересным подобный ход. Вообще все началось с картины: я писал черную девушку на коробке Brillo — стирального порошка. Черный цвет привлек меня как художника: он отсылал к Гогену с его черными девушками. Тогда же в Нью-Йорке были расовые беспорядки, разрушения, на каждом углу — граффити BLM. И я увидел плакат с надписью: What’s wrong with my skin. Это натолкнуло меня на мысль поиграть со своей расовой идентификацией. Я купил крем, мои друзья помогли нанести несколько слоев. Сделал серию фотографий на «Айфон» и не знал, как с ними поступить. Со временем я все больше врастал в эту тему, написал несколько картин. В итоге получилась серия работ «Что случилось с моей кожей». И я ею доволен. Но она совсем не предназначена для Америки. Я не буду ее там выставлять.
Э.Т.: Для меня это очень важная работа, новая и интересная. В ней есть диалог с идеологемой политкорректности. Но при этом у работы не полемический, а экзистенциальный смысл. Главное здесь — рефлексия и смена идентичности.
— В Штатах левые интеллектуалы придерживаются ценностей новой этики. В России интеллигенция оказалась разделена — одни принимают новую этику, другие отвергают ее.
А.К.: Это сложный цивилизационный вопрос. И все же я осмелился сделать такую акцию. Один американский писатель покрасил себя в черный цвет, объехал южные штаты и, столкнувшись с расизмом, написал об этом книгу. Скорее всего, это не единичный эксперимент. Нью-Йорк на моих глазах сильно пострадал, вандализм и распущенность перешли все границы. Однако моя работа о другом. Это эксперимент в дюшановском смысле — когда помещаешь себя в разные культурные ситуации.
Э.Т.: Я разделяю принципы новой этики, но в то же время считаю идеологию политкорректности угрозой свободе слова. Любая другая идеология — коммунистическая или потребительская — тоже является для нее угрозой.
— Александр Семенович, сталкивая коммунистические и потребительские идеологемы, вы как художник остаетесь над схваткой?
А.К.: Приехав в США, я увидел, что место идеологии коммунизма заняло потребление. Вообще ни одно произведение не свободно от идеологии. Моя выставка на Гоголевском бульваре должна была называться «Идеология». К сожалению, нам не удалось связаться со Славоем Жижеком, чьи работы на тему идеологии мне нравятся. Снятие идеологических табу, освобождение от пут идеологии я считаю одной из принципиальных задач искусства. И, в частности, своих работ.
— Можно ли быть абсолютно свободным?
А.К.: Видимо, все-таки нет: человек — социальное животное. Наш язык сам по себе идеологизирован, это касается, например, определения слов, подвижности смыслов. Впрочем, я не философ и говорю только о своем художественном опыте.
Э.Т.: С одной стороны, свобода — привлекательная вещь. Но, с другой стороны, опасная. И, конечно, она коррелирует с понятиями ответственности, осознанности и в их отсутствие превращается в хаос.
— Представители соц-арта уже стали классиками, а их произведения — частью того багажа культуры, с которым они сами работают. Причем часто работают иронично. Александр Семенович, для вас самоирония приемлема?
А.К.: Не только приемлема, но и необходима. Художник должен быть все время в движении. Одна из моих претензий к русским художникам состоит в том, что их позиции кристаллизуются. Искусство должно все время двигаться. Для меня трагична «онтологическая» правда уорхоловского Campbell’s Soup Cans, как, впрочем, и других его работ. На мой взгляд, преодоление трагедии бытия, действительности возможно через иронию в искусстве. А также через культуру «кэмпа» Сьюзен Зонтаг, культуру дадаизма. И у нас — через Гоголя и обэриутов.
Э.Т.: Мне кажется, Александру свойственна самоирония. В одном из прошлых интервью он сказал: «Искусство не должно заноситься слишком высоко, поскольку в настоящее время механизм его потребления во многом идентичен механизму потребления других массовых вещей». На мой взгляд, этот вопрос в выставке «DTM» тоже затрагивается.
А.К.: В качестве примера самоиронии хочу снова вспомнить Уорхола. Когда ему говорили, что коробки Brillo — это скучно, он отвечал: обожаю скуку. Это онтологически правильный взгляд.


