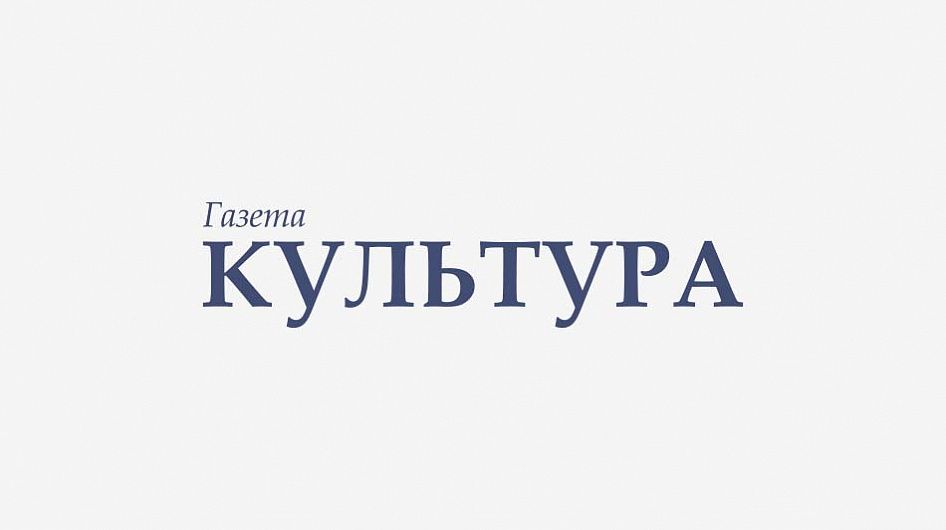
Трое в рифму, не считая Марины
В «Домике Чехова» на Малой Дмитровке проходит выставка, подготовленная Музеем Маяковского. «Нас мало, нас может быть трое» рассказывает о взаимоотношениях — поэтических и не только — Маяковского, Пастернака, Цветаевой и Асеева.
Их могло быть трое, но выставка посвящена четырем поэтам — и это не ошибка. В название вынесена строка из стихотворения Пастернака: под тройкой автор подразумевал тогда еще единомышленников — Владимира Маяковского, Николая Асеева и себя. «Нас мало. Нас, может быть, трое / Донецких, горючих и адских. / Под серой бегущей корою / Дождей, облаков и солдатских / Советов, стихов и дискуссий / О транспорте и об искусстве»… В «Домике Чехова» представлен автограф стихотворения — кстати, в отличие от академических изданий, «может быть» там запятыми не выделено. В таком же виде — подлинном, изначальном — фраза перекочевала в название выставки.
Все остальное здесь тоже подлинное — например, дарственная надпись Пастернака на книге «Темы и вариации»: «Несравненному поэту Марине Цветаевой, «донецкой, горючей и адской» от поклонника». Таким образом, Марина Ивановна стала четвертым углом поэтического треугольника. Пастернак превратился в ее поклонника в 1922‑м — после прочтения сборника «Версты», о котором узнал от Маяковского…
«Мы были людьми. Мы эпохи», — утверждал Борис Леонидович в том же стихотворении. Хотя написано оно было в 1921 году, когда людьми вышеперечисленные, конечно же, являлись, но эпохами — никак нет. Таковыми они стали позже. И каждой «эпохе», в том числе добавленной потом четвертой, кураторы посвятили особый раздел. Фотографии, письма, автографы, телеграммы, машинописи с правками, афиши поэтических вечеров, личные вещи — например, карандаш Маяковского, огромный, под стать хозяину. Или чернильница Пастернака — в отличие от владельца, совершенно заурядная. Кожаный кошелек Цветаевой. Ее же карманные мужские часы — стихи у Марины Ивановны тоже были не дамские.
Центральная фигура выставки — Маяковский: отношения с ним, отношение к нему. Асеев — преданный друг. Пастернак, поначалу восторженный, а потом охладевший к «певцу революции». Цветаева, считавшая футуриста настоящим поэтом и заклеванная за это в эмиграции.
Малая Медведица
«Правда, есть у нас Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя», — рапортовал Маяковский воображаемому Пушкину. Речь шла о поэтах, достойных встать в один ряд с Александром Сергеевичем и Владимиром Владимировичем. Из современников такой чести удостоился лишь «Колька», как называл его Маяковский. Или «Асейчик». Или «Колядка» — у любимого друга тысяча имен.
Николай Асеев был не просто другом, но соратником, единомышленником, товарищем по ЛЕФу. Безоговорочно преданный и почти боготворящий Маяковского. Во всем с ним согласный. Один пример: на выставке можно увидеть письмо глашатая революции организаторам совещания работников ЛЕФа: «Внимательно прослушав и обдумав два бесцветных дня — «совещаний» — должен заявить: никакого отношения ни к каким решениям и выводам из данного совещания не имею и иметь не хочу». На документе приписка Асеева: «Присоединяюсь целиком».
Целиком к «Володечке» он присоединялся во всем и сам же об этом говорил: «Раз как-то встретили мы пьяную компанию писателей на извозчике, человек пять насажалось. Маяковский посмотрел и сказал: «Полный воз дерьма повезли!» Не любил пьяного куража и разгула. Уменьем владеть собой учил окружающих. И я не любил того, что не любил он».
О первой встрече с будущим другом и соавтором (впоследствии они вместе сочиняли «агитационные вещи») Асеев вспоминал: «Я узнал его, идущего по Тверскому бульвару, именно по непохожести на окружающее. Высокий детина двигался мне навстречу, издали приметный в толпе ростом, сиянием глаз, широким шагом, черной, расстегнутой на горле, блузой. Я подошел, предчувствуя угадыванье, как иногда предчувствуешь удачу. «Вы Маяковский?» «Да, деточка!» Деточка была хоть и ниже его ростом, но уже в достаточном возрасте. Но в этом снисходительном обращении не было ни насмешки, ни барства». Через десять лет после смерти друга Асеев издаст поэму «Маяковский начинается» (за которую получит Сталинскую премию первой степени), где вновь опишет первое впечатление о футуристе: «Он шел по бульвару, / худой / и плечистый, / возникший откуда-то сразу, / извне / […] Какой-то / гордящийся новой породой, / отмеченный / раньше не бывшей красой, / весь широкоглазый / и широкоротый, / как горы, / умытые насвеж росой».
Впоследствии Асеев часто будет писать о Маяковском — великом поэте, так сильно на него повлиявшем («Что вы, Асеев, там с Бобровым возитесь? Ведь он же символист. Пишите так же, как и я, и это будет поэзия будущего»). О Маяковском — товарище («Очень он был предан друзьям. […] Он не раз говорил, что друг тот, кто ни в чем не изменит, даже в таких обстоятельствах, когда это не измена даже, а просто несогласие во взглядах»). Или Маяковском-картежнике: «С Маяковским страшно было играть в карты. Дело в том, что он не представлял себе возможности проигрыша как естественного, равного возможности выигрыша, результата игры. Нет, проигрыш он воспринимал как личную обиду, как нечто непоправимое. Это было действительно похоже на какой-то бескулачный бокс, где отдельные схватки были лишь подготовкой к главному удару. А драться физически он не мог. «Я драться не смею», — отвечал он на вопрос, дрался ли он с кем-нибудь. Почему? «Если начну, то убью»…
Асеев пережил Маяковского на 33 года, и все это время считался главным, «официальным» другом застрелившегося поэта. О злополучном дне — 14 апреля 1930-го — он тоже оставил воспоминания: «Дверь из передней в комнату Маяковского была плотно закрыта. Мне открыли, и я увидел. Головой к двери, навзничь, раскинув руки, лежал Маяковский. Было невероятно, что это он; казалось, подделка, манекен, положенный навзничь. Меня шатнуло, и кто-то, держа меня под локоть, вывел из комнаты, повел через площадку в соседнюю квартиру, где показал предсмертное письмо Маяковского. Дальше не помню, что было, как я сошел с лестницы, как очутился дома. Как-то окаменел на время. Позже, на Гендриковом, увидел его на диване, лежащим в спокойном сне, с головой, повернутой к стене, важным и торжественным в своей отрешенности от окружающего».
Лучшая иллюстрация отношений Маяковского и Асеева — шарж Кукрыниксов, выставленный в «Домике Чехова». Два товарища изображены в образе огромного когтистого зверя и прильнувшего к нему миниатюрного собрата — Большой и Малой Медведицы. Нарисовано это было за несколько месяцев до самоубийства Маяковского. «Эй, Большая Медведица! требуй, / чтоб на небо нас взяли живьем», — просил тот когда-то созвездие.
Непредвиденные совпадения
«В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, […] в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главною опорою», — вспоминал Борис Пастернак в «Людях и положениях». И добавлял: «Я же окончательно отошел от него».
История отношений Пастернака и Маяковского — от первоначальной восторженности до полного отчуждения — стала объектом многих исследований. Но ясности это не прибавило. К тому же воспоминания о дружбе и не-дружбе оставила лишь одна сторона — по понятным причинам то был Пастернак.
Они познакомились в конце мая 1914-го в кондитерской на Арбате, где происходила «сшибка» двух враждовавших литературных групп — футуристов и лириков. Естественно, наши герои были по разную сторону баррикад. Позже Пастернак изящно опишет атмосферу встречи — «непринужденная обстановка групповой предвзятости». Эта сшибка и стала началом влюбленности. «Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором», — вспоминал автор «Доктора Живаго». И добавлял: «Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем».
На следующий день они снова встретятся — случайно. Дело кончится декламацией стихов — в кафе на Никитском бульваре «дорогой Владим Владимыч» прочтет трагедию «Владимир Маяковский». Свое потрясение Пастернак опишет в мемуарах: «Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыханье. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал. Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом изданьи. Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направленьи, без которой поэзия — одно недоразуменье, временно не разъясненное. И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский».
«Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь», — скажет Пастернак в «Охранной грамоте». С такой же восторженностью к нему относился и автор трагедии. «В те годы Маяковский был насквозь пропитан Пастернаком, не переставал говорить о том, какой он изумительный, «заморский» поэт, — вспоминала Лиля Брик. — В завлекательного, чуть загадочного Пастернака Маяковский был влюблен, он знал его наизусть, долгие годы читал всегда «Поверх барьеров», «Темы и вариации», «Сестра — моя жизнь». Особенно часто декламировал он «Памяти Демона», «Про эти стихи», «Заместительница», «Степь», «Елене», «Импровизация»… Да, пожалуй, почти все — особенно часто. […] Я уверена, что он жалел, что не сам написал эти четверостишия».
«Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружились непредвиденные технические совпадения», — говорил Пастернак. И восхищался стихами коллеги: «Я очень люблю раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь». Правда, то относилось исключительно к «ранней лирике». К позднему периоду творчества Пастернак был неумолим: «Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюжие зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий». Описывая вечер, на котором «красный поэт» прочел поэму «150 000 000», Пастернак признается: «Впервые мне нечего было сказать ему». С начала 1920‑х их литературные тропы разойдутся. «Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности», — цитата из «Людей и положений».
В 1922 году, когда они еще числились друзьями, Пастернак подарит Маяковскому сборник «Сестра моя жизнь» с надписью: «Вы заняты нашим балансом, / Трагедией ВСНХ, / Вы, певший Летучим голландцем / Над краем любого стиха. […] / И вы с прописями о нефти? / Теряясь и оторопев, / Я думаю о терапевте, / Который вернул бы вам гнев. / Я знаю, ваш путь неподделен, / Но как вас могло занести / Под своды таких богаделен / На искреннем вашем пути?»
Впрочем, неприятием только стихов дело не ограничивалось. «Еще непостижимее мне был журнал «ЛЕФ», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались», — негодовал Пастернак в «Людях и положениях». При этом сам сотрудничал с журналом и был участником объединения «Левый фронт искусств» — вплоть до 1927 года.
После выхода из ЛЕФа он писал Цветаевой, с которой у него бурный эпистолярный роман: «Не только трогательность Володина отношения ко мне, но и моя старая любовь к нему […] не могли ослабить моего раздраженного удивления по поводу их затей и затем вскоре вышедшего журнальчика. […] Они знают, что я не с ними. Но Маяковский, нестерпимо цинический в обиходе, меняется в моем обществе, а со мной бывает иногда просто метафизичен. Т.е. он что-то знает обо мне, чего не знает Асеев, несмотря на наше давнее приятельство и близость в жизни. […] Вот отчего, когда в ответ на мое заявление о выходе из ЛЕФа, в конце длиннейших, затянувшихся до 6 часов утра переговоров, последовала с их стороны просьба не оглашать разрыва с ними, ограничась простым и как бы случайным отсутствием в журнале, номер за номером, я с этим примирился, под влиянием какого-то, сквозь все слова пробивавшегося взгляда М., тяжелого и пристально безмолвного». При этом Пастернак добавляет, что в «совершенно беспросветном» мире «только вот этот взгляд М., когда он безмолвен, как-то в этом отношеньи приемлем, как-то годится, чем-то напоминает о поэте и жизни поэта». Цветаева, восхищавшаяся певцом революции, отвечала: «О Маяковском прав. Взгляд — бычий и угнетенный. Такие взгляды могут все. Маяковский — один сплошной грех перед Богом, вина такая огромная, что нечего начинать, надо молчать. Огромность вины. Падший ангел. Архангел. […] У Маяковского взгляд каторжника. После преступления. Убившего. Соприкоснулся с тем миром, оттуда и метафизичность: через кровь».
Впрочем, несмотря на «старую любовь» к коллеге, раздражение все усиливалось. Причиной ссоры, а затем и разрыва отношений было то, что имя Пастернака продолжали печатать в списке участников ЛЕФа. Хотя из слов Бориса Леонидовича следует — это всего лишь повод: «Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом вершковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. […] Я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности аффектированно бессмысленной».
За бурным выяснением отношений последовала записка Пастернака («Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его»). Оригинал можно увидеть в «Доме Чехова». Почерком, «похожим на журавлей», поэт пишет: «Наш разговор не был обиден ни для Вас, ни для меня, но он удручающе бесплоден в жизни, которая нас не балует ни временем, ни безграничностью средств. Печально. Вы все время делаете одну ошибку (и ее за Вами повторяет Асеев), когда думаете, что мой выход — переход и я кого-то кому-то предпочел. Точно это я выбирал и выбираю. А Вы не выбрали? Разве Вы молча не сказали мне всем этим годом (но как Вы это поймете?!), что […] Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно-убедительнее меня? Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли. Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полуобморочной роли вождя несуществующего отряда на приснившейся позиции. Я сделал эту попытку заговорить с Вами потому, что все эти дни думал о Вас. […] Все это бред, дурной сон, абракадабра. Подождем еще год. И потом, как Вам нравится толкованье, которое дается у Вас моему шагу? Выгода, соперничество, использованье конъюнктуры и пр. И у Вас уши не вянут от этого вздора? […] Покидая ЛЕФ, я расстался с последним из этих бесполезных объединений не затем, чтобы начать весь ряд сначала. И Вы пока стараетесь этого не понять».
Все это приведет впоследствии к уверениям Пастернака: «По ошибке нас считали друзьями». Или: «Нашу близость преувеличивали». После смерти Маяковского он напишет: «Мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в те годы я столкнулся с границами моего понимания, по-видимому — непреодолимыми».
Точку в отношениях с «непреодолимыми» разногласиями поставила смерть Маяковского. В «Охранной грамоте» Пастернак вспоминал: «Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз выреветься в полную досталь. Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выраженье, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал. […] Я разревелся, как мне давно хотелось».
Архангел-тяжелоступ
«Превыше крестов и труб, / Крещенный в огне и дыме, / Архангел-тяжелоступ — / Здорово, в веках Владимир!» В 1921 году Марина Цветаева посвятила эти строки Маяковскому. С тех она еще не раз напишет стихи о нем.
Они виделись всего несколько раз, в друзьях не числились, да и жили в тысячах километров друг от друга. Взгляды их тоже не совпадали. Тем не менее Цветаева всегда восхищалась Маяковским и не скрывала этого. Тот относился к Марине Ивановне сдержаннее, но с явной симпатией. Например, на своей юбилейной выставке «20 лет работы» поместил среди экспонатов ее письмо. На дворе стоял 1930 год, имя поэтессы-эмигрантки, жены белогвардейца, в Советском Союзе не упоминалось — так что поступок виновника торжества можно считать как минимум смелым.
То письмо известно: «Дорогой Маяковский! Знаете, чем кончилось мое приветствие Вас в «Евразии»? Изъятием меня из «Последних новостей», единственной газеты, где меня печатали — да и то стихи 10–12 лет назад! (NB! Последние новости!) «Если бы она приветствовала только поэта — Маяковского? Но она в лице его приветствует новую Россию…» Вот Вам Милюков — вот Вам я — вот Вам Вы. Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным. Можете и огласить. До свидания! Люблю Вас». Это послание Маяковский получил в день отъезда из Парижа — 3 декабря 1928-го. Ему предшествовало открытое письмо Цветаевой в газете: «Маяковскому. 28-го апреля 1922 года, накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского. — «Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?» — «Что правда — здесь». 7-го ноября 1928 года поздним вечером, выходя из Kafe Voltaire, я на вопрос «Что же скажете о России после чтения Маяковского?» — не задумываясь, ответила: «Что сила — там!» Русская эмиграция этих слов поэтессе не простила. Революционный азарт стихов «архангела-тяжелоступа» был чужд и ненавистен, хоть иные и отдавали должное поэтическому дарованию. Роман Гуль, к примеру, характеризовал «Левый марш» Маяковского как «жизненно отвратительный и художественно прекрасный».
В том же 1928 году в Париже Маяковский получил от Цветаевой последний ее прижизненный сборник «После России» с дарственной надписью: «Такому, как я, — быстроногому». Уже после самоубийства поэта она скажет в эссе: «Этими своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом долго еще нас будет ждать». И там же добавит: «Говоря о данном поэте, Маяковском, придется помнить не только о веке, но непрестанно придется помнить на век вперед. Эта вакансия: первого в мире поэта масс — так скоро не заполнится. И оборачиваться на Маяковского нам, а может быть, и нашим внукам, придется не назад, а вперед».
«Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил. […] Прожил как человек и умер как поэт». Весть о смерти певца революции Цветаеву потрясла. «Бедный Маяковский! Чистая смерть. Все, все, все дело — в чистоте», — писала Цветаева через неделю после самоубийства коллеги. Позже она скажет: «Боюсь, что, несмотря на народные похороны, на весь почет ему, весь плач по нем Москвы и России, Россия и до сих пор не до конца поняла, кто ей был дан в лице Маяковского».
Через два года после смерти первого поэта революции Марина Ивановна напишет о нем эссе. Меткая цветаевская проза будет исследовать поэзию Маяковского — в сравнении с пастернаковской. «Сколько читателей у Пастернака — столько голов. У Маяковского один читатель — Россия. В Пастернаке себя не забывают: обретают и себя, и Пастернака, то есть новый глаз, новый слух. В Маяковском забывают и себя, и Маяковского. Маяковского нужно читать всем вместе, чуть ли не хором (ором, собором), во всяком случае, вслух и возможно громче, что с каждым читающим и происходит. Всем залом. Всем веком. Пастернака же нужно всюду носить с собой, как талисман от этих всех, хором орущих все те же две (непреложных) истины Маяковского. […] Ни у Маяковского, ни у Пастернака, по существу, нет читателя. У Маяковского — слушатель, у Пастернака — подслушиватель, соглядатай, даже следопыт. И еще одно: Маяковский в читательском сотворчестве не нуждается, имеющий уши — да слышит, да — вынесет. Пастернак весь на читательском сотворчестве. Читать Пастернака немногим легче, а может быть, и совсем не легче, чем Пастернаку — себя писать. Маяковский действует на нас, Пастернак — в нас. […] Нет человека, не понимающего Маяковского. Где человек, до конца понявший Пастернака? (Если он есть — это не Борис Пастернак.) […] Явление деталями — Пастернак. У Маяковского тоже есть детали, весь на деталях, но каждая деталь с рояль. […] Оптом — Маяковский. В розницу — Пастернак».
Маяковского Цветаева будет называть «гением масс», «первым человеком нового мира», «первым русским поэтом-оратором». И, конечно, воплощением пролетариата: «Маяковский — живой памятник. Гладиатор вживе. Вглядитесь в лобяные выступы, вглядитесь в глазницы, вглядитесь в скулы, вглядитесь в челюсти. Русский? Нет. Рабочий. В этом лице пролетарии всех стран больше чем соединились — объединились, сбились в это самое лицо. Это лицо такое же собирательное, как это имя. Безымянное имя. Безличное лицо. Как есть лица с печатью интернациональной авантюры, так это лицо — сама печать Пролетариата, этим лицом Пролетариат мог бы печатать свои деньги и марки. Маяковский среди рабочих мира был настолько свой, он — настолько они, что спокойно мог дымить на них английским табаком из английской трубки и сверкать на них черным лаком парижских башмаков и собственной парижской машины — только радость: своему повезло. […] Свой среди своих. Только те рабочие живые, этот — каменный».
«Выстрел — в самую душу, / Как только что по врагам. / Богоборцем разрушен / Сегодня последний храм. / […] Много храмов разрушил, / А этот — ценней всего. / Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего», — писала Цветаева через несколько месяцев после выстрела в комнатке на Лубянке. Сама она расквитается с жизнью с помощью веревки — по легенде, принесенной Пастернаком, чтобы перевязать чемодан. А предсмертную записку с просьбой позаботиться о сыне Марина Ивановна напишет Николаю Асееву — лучшему другу Маяковского. Круг замкнется.


