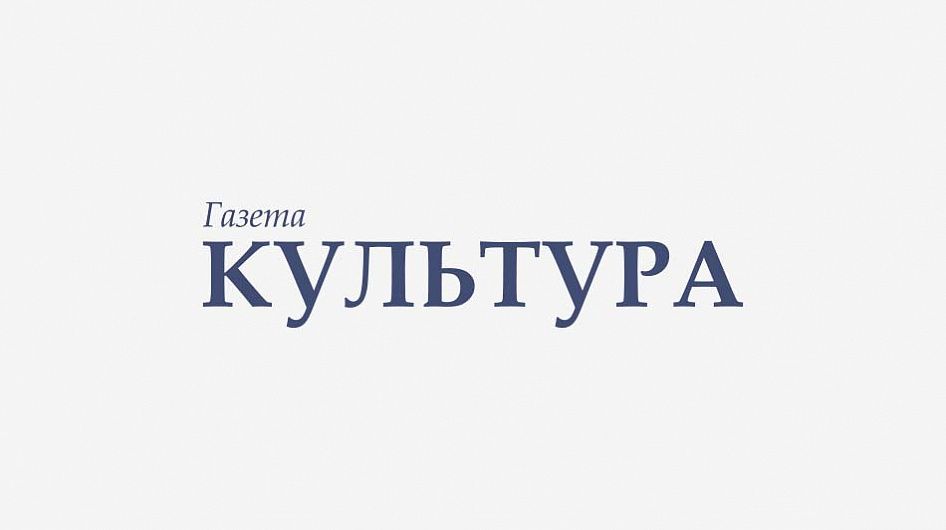
Конструктивный разговор
9 апреля (28 марта по старому стилю) 1882 года родился архитектор Виктор Веснин. Вместе с братьями Александром и Леонидом он стал одной из ключевых фигур советского авангардного направления в искусстве — конструктивизма. Бум на строгие футуристичные здания, в стенах которых должен был формироваться новый человек, продлился меньше десяти лет. Однако во всех энциклопедиях с тех пор появился раздел, посвященный дерзкой попытке воплотить в железе и бетоне тезис о том, что «бытие определяет сознание».
Лаконичные, почти лишенные декора, составленные из причудливых параллелепипедов и цилиндров... «Даже в незнакомом городе легко найти конструктивистское здание, — рассказывает кандидат искусствоведения Николай Васильев. — Оно как бы отстоит от «красной линии» домов. Подъезд еще выступает, а все остальное спрятано вглубь. Это сделано, чтобы оценить игру объемов, пластику фасадов».
Николай — специалист по конструктивистской Москве, генеральный секретарь Российского отделения DOCOMOMO. Мы встречаемся в Лефортово. Бывшая рабочая окраина — сегодня приличное место, недалеко от центра. Когда-то здесь была простецкая «Дангауэровка»: название появилось из-за литейного завода Дангауэра и Кайзера. В 1928–1932 годах на месте трущоб возвели самый большой рабочий поселок (в Москве их построили примерно два десятка).
— Конструктивисты мечтали творить масштабно — прокладывать проспекты, перекраивать целые районы, — рассказывает Николай. — Но развернуться им особо не давали. Разве только на окраинах или в «Третьих пролетарских столицах» — современных Иваново, Харькове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге... Исторический центр Москвы решили до поры не трогать — ограничились точечной застройкой.
Штучные проекты в Белокаменной делали звезды — Константин Мельников, братья Веснины, Илья Голосов, Иван Николаев, Моисей Гинзбург. Это были дома-манифесты, демонстрировавшие полный разрыв с ордерной архитектурой. Лепнина, излишний декор объявлялись вне закона. Оставалось лишь то, что работало на полезность, функциональность. Более того, потаенные, обычно спрятанные внутри здания элементы — лифты, лестницы — нарочно выпячивались наружу. В знаменитом ДК Русакова (проект Мельникова), похожем на огромную шестеренку, «зубцами» являются балконы зрительного зала, как бы выступающие за пределы здания. Архитектура модернизма позже подхватила этот прием — вспомните опутанный снаружи «кишками» труб Центр Помпиду.
— Окраины Москвы отдали архитекторам второго ряда, — продолжает Николай. — В массовой застройке было сложнее проявить себя, зато она точно отражает стиль эпохи.
Идем к так называемым «Американским домам» — их создавали специально для инженеров из Штатов: неясно, правда, много ли приехало гостей. Сейчас там живут потомки пролетариев. Во дворе — небольшой памятник Ленину, «одетый» по моде 30-х: ботинки с тупыми носами, в руке кепка.
— Нарезка на кварталы раньше ориентировалась на проходные заводов, — продолжает рассказ мой гид. — Мало кто работал в центре, еще не построили метро. Поселок был обособлен: своеобразный город в городе. В фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» герой живет в одном из местных домов. Когда он приходит из армии, его спрашивают: будешь учиться в Московском энергетическом институте (который, к слову, тут рядом)? Нет, отвечает он, «сюда на 11-ю ТЭЦ пойду, институту это не помешает».
Кстати, одно из зданий МЭИ, учебный корпус «Е» — своеобразная победа наших молодых архитекторов над Ле Корбюзье. Впечатлившись созданным им проектом здания Центросоюза, победившим на конкурсе в Москве, ученики Александра Кузнецова первыми в СССР (даже раньше самого мэтра) воплотили его основные принципы — сплошное остекление, плоская крыша-терраса... Сам дом, как и положено, стоял «на ножках». Корпус был построен в рекордные сроки — за два года, тогда как здание Центросоюза завершили только через шесть лет, в 1936-м.
— В здании МЭИ сохранились лифты непрерывного действия, в которые нужно запрыгивать на ходу, — рассказывает Николай. — Правда, сейчас они отключены. Подобные есть еще в Доме Наркомзема (Минсельхоз РФ). Обшивку в них давно поменяли, но механизм работает с 1933 года практически без ремонта.
Досуг пролетариата, по мнению апологетов конструктивизма, тоже нуждался в правильной организации. Первые культпросветучреждения — народные дома — появились в России еще в конце XIX века. После революции строились рабочие клубы. Самый масштабный из них — Дворец культуры ЗИЛ, проект «бригады Весниных». В отличие от клубов Константина Мельникова, превращенных в офисы или находящихся на реконструкции, он до сих пор работает по профилю. Сохранились библиотека, киноклуб, обсерватория, детские кружки.
Внутри ДК — осколки теплого советского детства. Около гардероба играют в настольный теннис. Этажом выше по паркету вальсируют пожилые пары. В застекленном зимнем саду, сделанном в виде большой полуротонды, не видно знакомых по старым снимкам фонтанов, похожих на чаши с блюдцами, зато появились столики, вписывающиеся в лаконичные интерьеры... Здание по кусочкам ремонтируется — местами вполне аутентично.
— Если затевать большую реставрацию, то непонятно, на какой период ориентироваться, — объясняет Николай. — После войны здесь появилась лепнина, в 70-е интерьеры были вновь переделаны — очень достойно, но уже в духе «соцмодернизма».
Гуляя по ДК, успеваю оценить, как много функциональность значила для конструктивистов. Даже в мелочах: на площадках между лестничными пролетами стены чуть искривлены — именно так, по дуге, перемещается людской поток.
Впрочем, всегда ли была важна лишь утилитарность?
— Вы замечали, — говорит мой гид, когда мы проезжаем мимо очередного строгого геометричного здания, — как много в этих домах стекла? С одной стороны — свирепствовал туберкулез, были строгие правила, касавшиеся инсоляции и проветривания помещений. Но с другой — существовал умозрительный момент, плотно влиявший на форму. Огромные окна — метафора открытости: снаружи мы видим, что происходит внутри, и наоборот. В эпоху сталинского ампира проницаемость выходит из моды: вертикальные окна зашиваются. Здания одеваются в броню, становятся более монументальными. Дом превращается в монолит.
Следующий объект — особенный, давно получивший статус культового.
Конструктивисты верили, что основным жильем станут дома-коммуны, как, например, возведенное по проекту Ивана Николаева общежитие Текстильного института на две тысячи человек. Архитектор, словно следуя постулату Ле Корбюзье «Дом — машина для жилья», спроектировал восьмиэтажное здание с маленькими, словно купе, двухместными комнатами. В каждой помещались лишь пара кроватей и табуреток. Вещи хранились в санитарном блоке в отдельных шкафчиках — как в американском колледже. Личное пространство было сведено к минимуму.
— В принципе, это работало, — рассказывает Николай. — Все-таки там жили студенты, люди одного поколения. Важно было приучить бывших деревенских ребят к городскому ритму — например, вставать по будильнику, регулярно ходить в душ. Николаев, придумавший особую систему кондиционирования, в пояснительной записке к проекту даже предлагал пускать по вечерам усыпляющий газ, а с утра наоборот — бодрящий.
Однако дома-коммуны так и остались экспериментом. Позже они перестраивались. Людям хотелось завести семью или хотя бы пообедать у себя в каморке, а не в столовой или на общей кухне…
Тем не менее идея о «жизни единым человечьим общежитием» некоторое время казалась осуществимой. Пока же создавались специальные здания переходного типа — как, например, Дом Наркомфина, построенный в 1930-м по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Там сохранялась структура семьи и отводилось скромное место личному пространству. Подразумевалось, что человек постепенно перевоспитается и отбросит мещанские предрассудки.
— Этот памятник делался на «живую нитку», — продолжает рассказ мой гид. — Точных чертежей не сохранилось. Ходит легенда, что Гинзбург закопал их на Гоголевском бульваре.
Для Дома Наркомфина характерен особый винтажный шарм. С 40-х здесь не было капитального ремонта, а с 78-го он находится на расселении. Осталось шесть приватизированных квартир. Пока здание не снесли, его облюбовала богема и люди творческих профессий.
Ксения живет здесь недавно. Ее апартаменты — «нижние» в ячейке типа F, остроумном изобретении советской авангардной мысли. В Союзе было построено лишь шесть домов с подобными планировками. В ячейку объединены две квартиры, фактически находящиеся друг над другом. «Верхняя», трехуровневая: из прихожей можно подняться по ступенькам в небольшую гостиную, а оттуда — наверх, в спальню. В «нижней» всего два уровня — открыв дверь, спускаешься в жилое пространство.
— Идея принадлежит ленинградским архитекторам, — поясняет Николай. — Она оказалась безумно эффективной. Площадь «нижней» квартиры — всего лишь 30 метров, как в хрущевке, но кубатура из-за разницы по высоте гораздо больше. Здесь всегда светло. Огромные окна выходят на обе стороны. Гинзбург писал, что можно было даже сделать их поменьше.
Впрочем, плачевного состояния здания никто не отменял. На потолке огромное желтое пятно — протекает крыша.
— Общая проблема плоских кровель — плохая гидроизоляция, — объясняет Николай. — Говорят, банкир Рауль де ля Рош, которому Ле Корбюзье построил виллу в Париже, потратил на ремонт крыши больше, чем на сам дом. Только в 50-е с этой напастью научились справляться.
За сам Дом Наркомфина можно не беспокоиться — у него прочный железобетонный каркас. Зато фасад выглядит неважно. Кое-где топорщится камышит — ненадежный и устаревший утеплитель. В здании отличная слышимость.
— Нет, у нас тихо, — уверяют друзья Ксении, тоже снимающие здесь квартиру. — Наверху все умерли. Внизу живут художники, но они в последнее время неактивны. Соседка справа обычно днем ругается. А слева ребята веселятся только по ночам...
В юности подобная романтика хороша. Но далеко не все жильцы разделяют экзотические пристрастия богемы, которую не пугает ни старая проводка, ни жуткое состояние подъезда. Проходим по бесконечному застекленному коридору (площадке, где, по замыслу архитектора, жильцы могли общаться друг с другом) в торец здания. Здесь, в бывшей коммунальной кухне, теперь кабинет-мастерская одного из «коренных» жителей. Виктор Алексеевич, коллекционирующий радиоприемники 50-х годов (в комнате мурлычет легкий джаз), настроен довольно скептически:
— По-вашему, тут здорово? Коммуникации закатаны в перекрытия и стены, отремонтировать их невозможно. Как одноразовый стаканчик — выпил и выбросил. Раздумываю, не поменяться ли на квартиру в соседнем доме.
— Местных жильцов можно понять, — говорит Ксения, когда мы пьем чай у нее в кухне-гостиной. — Художникам и дизайнерам, увлеченным историей архитектуры, здесь весело и интересно. Это их временный дом. А для собственников шум соседского холодильника, мокнущие стены, страшные фасады — единственная реальность.
— Усугубленная к тому же неопределенностью, — добавляет Николай. — Неизвестно, когда они отсюда съедут и с чем — чемоданом вещей или чемоданом денег.
Уходя, оглядываюсь на этот дом, похожий на корабль, плывущий среди чистых и вылизанных улиц Красной Пресни. Проект «Конструктивизм», закрытый 80 лет назад, вряд ли можно считать провалившимся. Человек, оставаясь существом социальным, оказался не готов отказаться от личного пространства. Однако какой-то важный нерв представителям советского авангарда все же удалось задеть. Ведь даже потрепанные временем, эти утилитарные здания продолжают притягивать неисправимых романтиков.


