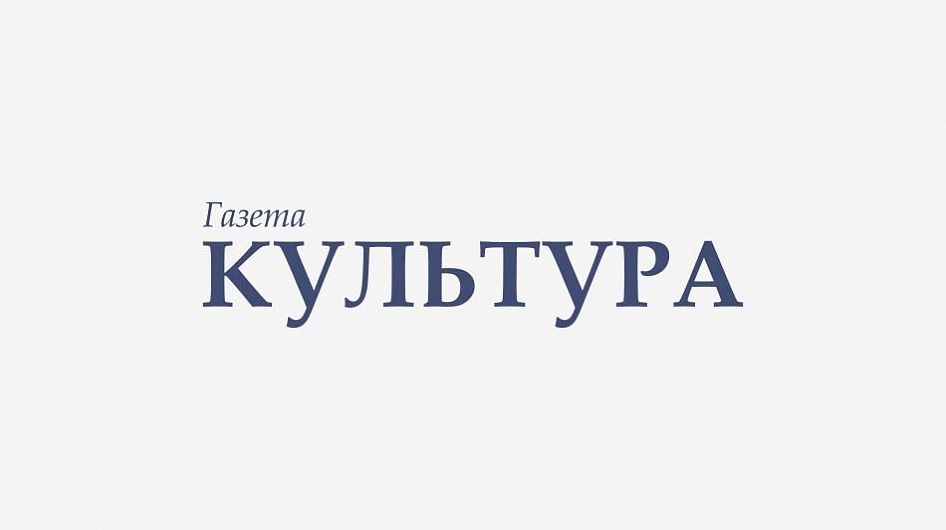
Карен Геворкян: «Режиссура сродни медицине»
Режиссер телефильма «Иван Павлов: Поиски истины» и экзистенциальной драмы «Пегий пес, бегущий краем моря» Карен Геворкян на четверть века пропал из поля зрения публики. Но в прошлом году вернулся на съемочную площадку, чтобы рассказать о простой шахтерской семье, переживающей тяжелые времена. «Вся наша надежда» начинается как производственная лента, проникнутая духом неореализма. Смотрится на одном дыхании, как ни разу не изменяющий жизненной правде триллер, и достигает мощи эпической драмы. Однако дата проката пока не определена.
культура: Как возник замысел картины?
Геворкян: В начале нулевых на глаза попалась газетная заметка о бедственном положении русского Донбасса, я вспомнил о давней идее снять фильм о горняках, отправился в город Шахты Ростовской области и увидел руины. Первым человеком, которому пожал руку, был председатель городского профсоюза горняков, ставший прототипом одного из героев. У нас состоялся очень интересный разговор, Юрий Каунов помог наладить контакты и предупредил: не болтай о московской прописке. Народ там строгий и жесткий, считает столицу источником всех зол. Главный герой нашелся всего за неделю до съемок — сыгравший отца активиста бывший шахтер, а ныне пенсионер Анатолий Бойко. Уникальный, трогательный, сверх меры совестливый, больше всего он боялся нас подвести.
Стучание касками на Горбатом мосту было лишь прелюдией. С конца 90-х началась массовая ликвидация предприятий, Чубайс и Немцов приезжали кормить народ обещаниями, но в нулевых разруха приобрела катастрофический размах. Горняки убеждены, что шахты обанкротили не из-за нерентабельности, а в силу преступного умысла. Я увидел народную драму и понял, что должен рассказать о вычеркнутой из жизни и обреченной на вымирание элите нашего рабочего класса.
За адский, связанный с риском для жизни труд шахтер получает, как кассирша в столичном «Макдоналдсе», — около тридцати тысяч в месяц. Но в отличие от нее гордится своей профессией. Этот факт посильнее любых рассуждений о престиже. Человек труда — главный на Земле — оказался у нас в загоне. Форм рабства не счесть, но личность может оставаться свободной в самых тяжелых условиях — даже в тюрьме больше воли, чем у миллиардера на яхте. Стране нужны люди, дарящие другим надежду на будущее. В Москве, близ Пушкинской площади, на доме 5 по Большому Путинковскому переулку я увидел барельеф — рабочий катит колесо, и цитата из Писарева: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Первые три слова я использовал как заглавный титр фильма.
Режиссура сродни медицине, она предполагает сочувствие, понимание и адресную помощь. Изначально мне было ясно, что сниму картину с непрофессиональными актерами. Так возникла история — первая часть задуманной трилогии о большой шахтерской семье. Пожилой горняк решает уволиться и увезти семью на Алтай, заняться крестьянским трудом. Важно, что это не неудачник, а лидер — сколько может, латает изношенное оборудование в шахте, предупреждает товарищей и руководство о неминуемой катастрофе, пишет заявление об уходе, определяет, как жить детям.
культура: Мир героев открывается нам по мере развития сюжета, этот взгляд от земли, как-то уживающийся с изяществом повествования, — специальный прием или интуитивный ход?
Геворкян: Для меня важнее всего была естественность, темп и ритм повседневной реальности. Я не люблю навязываться и форсировать события. И в жизни далеко не сразу можно понять, как человек смотрит на вещи и чем он нам близок или далек. Мы узнаем людей по тому, как они трудятся, общаются.
культура: Исход из шахты приобретает библейское измерение…
Геворкян: Это простой фильм о непростых сильных людях. Мне не хотелось бы примерять на него глубокомысленные философские тоги, никакого «Левиафана» за пазухой не держу. Отрицать легко, это рефлекторное поведение молодых людей, следующих девизу «жизнь сложна, но мы сложнее». Настоящая драма нашего кино не в творческих успехах Звягинцева, а в том, что не появился новый Шукшин. Российский кинематограф находится не в кризисе, а в катастрофическом состоянии. Присмотритесь, мы живем в самой интересной на свете стране, вокруг тысячи незабываемых типажей, за каждым стоит драматическая история. Однако не каждый способен сыграть и прочувствовать чужую судьбу. Без живых, честных, ярких, характерных людей снимать невозможно. Они есть везде, но меньше всего их в актерском цехе.
культура: Почему так получилось?
Геворкян: Это тренд — снимать российскую действительность чуждым ей глазом. Режиссеры оказались не в состоянии ни уловить, ни сформулировать внятный социальный заказ, и оставшиеся без серьезной работы исполнители просто выдохлись. В ХХ веке мы умудрились предать сразу две великие культуры — русскую и советскую. Затем, увлекшись посторонними, ментально чуждыми идеями, стали, по Гоголю, «иностранцами Василиями Федоровыми». Народ не верит мастерам экрана и правильно делает, они живут и снимают так, будто страны не существует. Я апологет живого кино про реальных людей: помогая им, помогаешь себе.
культура: Советская культура так же провозглашала разрыв с проклятым прошлым, не в этом ли исток кризиса идентичности?
Геворкян: Решительно не соглашусь. Булгаков, Пришвин, Платонов, Абрамов — советские писатели, но Пушкина с Толстым никто не отменял. Новый социум формулировал запрос на свою культуру, но она строилась на основе классической базы. А мы сбежали со стройки.
культура: Которую обанкротили. Причем не мы, а либеральный интернационал под руководством зарубежных консультантов.
Геворкян: Мы трижды теряли государственность — в февральской, октябрьской и августовской катастрофах. Дворянская, демократическая, номенклатурная элита всякий раз предавала людей под предлогом создания прогрессивного строя. Хочешь новый дом? Строй рядом со старым! А реформаторы буквально испепеляли страну, потому что у капитала нет родины. Откаты — пострашнее, чем Ленин, они подрывают общество изнутри.
культура: Что могут предложить кинематографисты?
Геворкян: Честную работу вместо перепроизводства патологий. Одна крайность называется у нас «коммерческим», а другая «авторским» кино, но обе не имеют никакого отношения к реальности. Первое окупается в считанных случаях, а второе — базируется на эгоизме, отрицает собственную страну и народ и не имеет права называться авторским. Оба понятия замазывают катастрофическую бездарность, прежде всего продюсеров, оказавшихся иностранцами в своем отечестве, людьми вне культуры. Невозможно создавать кино под присмотром дюжины дельцов. Не они, а режиссеры должны определять дух страны, лишь тогда кино будет адекватно ее масштабам и запросам.
Итальянский неореализм начался со сценариста Дзаваттини. Он собрал друзей и сказал: страна в трудном положении, играть в игрушки неприлично, нужно снимать кино, которое поможет людям выжить. Так возникло сообщество, понимавшее цели и задачи, свою роль в судьбе народа. И сегодня мы стоим перед той же проблемой — нам необходимо солидаризироваться на основе не спущенных сверху, а сгенерированных нами же общих задач. Наступило время начинать с чистого листа, поэтому свою студию я и назвал «Чистое поле».
культура: Странно, что Вы не получили поддержку Минкульта, ведь «Вся наша надежда» — фильм о людях труда...
Геворкян: На прошлом питчинге нашим продюсерам из «Парадиза» отказали из-за незначительных погрешностей в оформлении документов. Судя по-всему, чиновники просто не посмотрели картину. Но я еще надеюсь на сотрудничество.
культура: Вы долго жили в Армении, чем запомнился этот период творчества?
Геворкян: Деградацией страны. Мы растеряли интеллектуальный, экономический, культурный потенциал, созданный советской властью. В 1920 году в Ереване насчитывалось всего 20 тысяч человек, коньячный завод и ремесленные мастерские, а в 70-е город стал миллионником с гигантским дворцом оперного театра, многоотраслевой промышленностью, третьим по величине центром по производству вычислительной техники. На душу населения приходилось больше научных и учебных институтов, чем в любой другой республике. Сегодня умный и деятельный народ сбежал в Россию и Америку. Мы превратились в клановое государство. У России схожие проблемы, но из-за масштабов они не так бросаются в глаза, к тому же ей повезло с Путиным, а нам — нет. Это очень плохо, государство надо уважать.
Последней каплей стала судьба моего документального фильма о геноциде армян. У этого преступления, в отличие от Холокоста, было несколько соучастников — младотурки, непосредственно вырезавшие переселенцев курды и германские кураторы бойни. Я снял немецкоязычную картину на основе архивных документов германского МИДа, писем и отчетов консулов, но ни один телеканал ФРГ не согласился ее показать. Это можно понять: лента заканчивалась хроникальными кадрами, как солдаты армянской дивизии пляшут под зурну на развалинах Рейхстага... Поразила реакция соотечественников. «Как, вы снимали без нас?» — недоумевал директор «Мемориала» и Института геноцида. И в Армении все телеканалы ее отвергли под предлогом, что я хочу настроить немецкий народ против армянского. А затем выяснилось, что тема приватизирована американской диаспорой, относящейся к народной трагедии как к собственному приусадебному участку. Эти обстоятельства заставили меня закрыть эпизод биографии и вернуться в Россию. Правда, до переозвучания картины на русский язык у меня пока не дошли руки.
культура: Возникает ощущение, что, несмотря на геополитический разлом, у России и Армении остается общая судьба.
Геворкян: Пока мы не поймем, почему в XX веке все рухнуло, не выкарабкаемся из-под нагромождения обломков. После пережитых нами планетарных потрясений без национальной идеологии и программы развития выжить невозможно. Это должна быть не заимствованная схема, а тугой обруч, связывающий людей, как доски в бочке.
Это государство-семья, государство-крепость. Здоровые семейные интересы, цели, отношения должны быть на первом месте. Нравственность, порядок, чистота и уют в доме, прежде всего забота о детях, стариках и друг о друге — пусть станут во главу угла. Тогда мы будем непобедимы. В советские годы эти ценности имели вес, но власть использовала людей без уважения, и поэтому народ отвернулся от государства.
Нужно сформулировать идеологию, работающую на пользу каждого человека, а экономика приложится. Я ничего не имею против частной собственности, но России противопоказано расслоение общества — мы прекрасно помним, чем это кончается. Если частное предприятие не исходит из интересов тружеников, его надлежит национализировать или передать уважаемому работниками собственнику, понимающему, что живет на виду, а если нарушит нормы управления и хозяйствования, немедленно окажется в канаве. И продажный судья должен отвечать за вердикт карьерой и благополучием близких. Всем очевидно, что государство может исчезнуть, а семья нет. Семья — заглавная буква алфавита, ее не запихнешь в рамки какой-нибудь «прогрессивной общественной формации».


